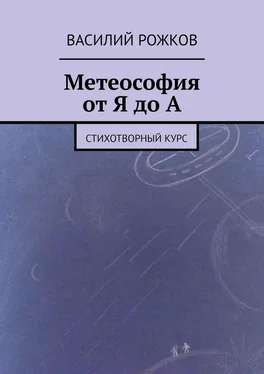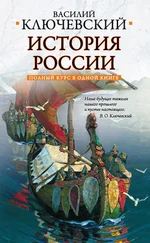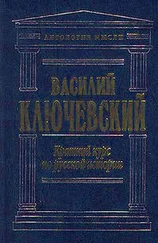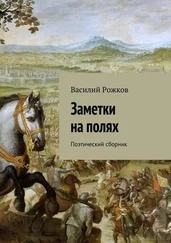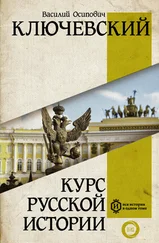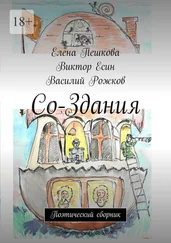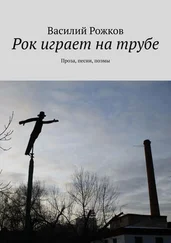А как иначе? Как делать иначе, если хочется объять – объять объятное, родное и знакомое, пока ещё не основательно забытое? Указующий перст в исступлённом бессилии жмёт на кнопку, раз за разом готовясь проткнуть клавиатуру насквозь, так упряма эта своенравная буква А. Может, она по идейным соображениям не хочет вставать в общий ряд? Или это скромность? Ты, главное, не волнуйся и не считай своего читателя идиотом. Он умный, он все поймёт, соберёт по крупицам, склеит из обломков, залакирует, поставит на полочку. Благо, есть что собирать, есть что расставлять, сколько всего понаделано за прошедшие-то годы. Тем более за те пресловутые двадцать пять лет, что отделяют не забытый декабрьский вечер от текущего момента. Ты выбросил карандаш? Значит, руки свободны, давай зажимать пальцы. Любовь и насмешка, борьба видов и единство противоположностей, пыльные кулисы истории и прогрессорский футуризм, прогулки по осеннему лесу и дремота промёрзших электричек, благорастворение и концентрация. Были и беды, и горечи, и ненастья, до сих пор звенящие где-то в самой глубине и прочными верёвками опутавшие ноги – но были и радости, с каждым новым воспоминанием те тяжелые путы ослабляющие. Были глупцы, были и мудрецы – и хорошо, что вторых всё же больше, как ни крути. А ещё – человек даже откинулся на спинку кресла, ему особенно нравятся эти слайды в памяти – будет бесшабашно-весёлый студенческо-дворовый коллектив под названием «звёздочка» (четырёхконечная, безобидный «знак четырёх»), ставшая основой для креативно-музыкального (больше все-таки креативного, нежели музыкального) проекта WaterlooBugs, ярким болидом рассекшего подмосковное небо на «до» и «после» и яростно взорвавшегося единственным своим выступлением на Электростальском рок-фестивале 1999 года в составе соло-гитары, сэмпла, бытовых электроинструментов и двух свидетелей в зрительном зале; будут долгие мытарства в поиске сферы деятельности – от заводских подземелий до склочных офисов, от поездок по городам и весям до пыльных складских ангаров – и всё это не замедлит внести свою лепту в творческий процесс, отображаясь новыми стихами; случится потом и московский клуб молодых писателей, внезапный оазис родственных душ на долгом пути сквозь пустыню безвременья, заодно и полный трофеев – первых самостоятельных книг, публикаций, дипломов от сердобольных кураторов: хочешь – на стену вешай, хочешь – воздушного змея построй, а хочешь – проводи по глянцу трепетной ладошкой, вспоминая былые времена. И наконец, будет ещё один этап – созданная вместе с другом и коллегой неформальная литературная группа «Склад на Нагатинской», наречённая так по месту работы, долго оглашавшая интернет-окрестности громкими капслоками споров и дискуссий. Увы, казалось бы, и работе совместной пришёл конец, а группа все живёт, нет-нет да высвечивает из сумрака молчания силуэт чьих-то мыслительных образов, и кипят реторты, порождая на свет очередную божью стихотварь, и вершится та самая алхимия слов, скоро в стихе воспетая. Всё было и всё будет, человек, и всему уготовано место на полочке. Не волнуйся.
Осталось дело за малым – сформулировать самому и помочь в этом читателю – что же такое «метеософия» и какими путями пробралась она на обложку свёрстанного номера? Понятно, что состоит это слово из двух более известных – «метеорология» и «теософия» срослись в нём, как сиамские близнецы, привнося с собой все смыслы, какие только могут выйти из подобного сочетания. Само слово появилось внезапно, выскочило из кожистых складок крыльев-комментариев, что прорастали у всякого нового произведения на упомянутом выше «Складе» в былые годы, более охочие до борьбы умов. В водоразделе душевных смут, на зыбкой почве познания старых стилей и школ требовалось определить себя, в пику (но не во зло) всем хиппи и буддистам, зато совершенно в «складском» номенклатурном стиле напрашивалась чёткая линия, слово-пароль для входа в мир узнаваемых с первого взгляда вещей. Определение нашлось быстро. Что же касается самой его сути, то, выражаясь кратко и сухо, автором выделяется два основных метеософских метода. Первый: изображение явлений и взаимосвязей человеческой жизни в виде близких им природных явлений (например, описание войны при помощи грозы). Второй: изображение природных явлений и их взаимосвязей при помощи перипетий человеческой жизни (например, описание грозы при помощи войны). Это явления масштабные, соответственно, более мелкие составляющие этих явлений подпадают под аналогичный метод описания – и тогда раскаты грома становятся канонадой, сполохи молний разят наподобие залпов реактивных миномётов, а дождевые капли идут солдатами в атаку. Разумеется, это только один из примеров, ведь игра в «что на что похоже» совсем не обязательно должна быть апокалиптически-депрессивной. Метода же в целом, остается надеяться, легка для понимания. Ничего сенсационно нового, равно как философски-замороченного в ней нет. И все же при желании в ней можно найти и классическое почвенничество, и новомодную тему экологии, и языческое соседство со стихиями, и францисканское странствование по миру в окружении милых сердцу родственных душ. В метеософии страждущий и добродетельный ум может найти всё – кроме, разве что, антропоцентричности. Здесь картина мира отчетливо ясна – человек лишь одна из планет этой звёздной системы, и так же вращается вокруг Солнца, взыскуя света и тепла.
Читать дальше