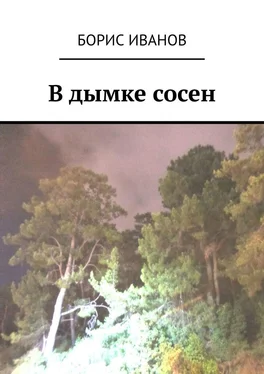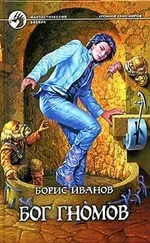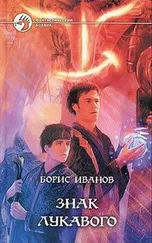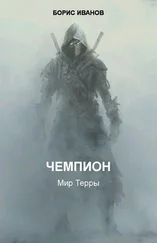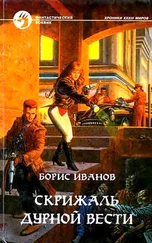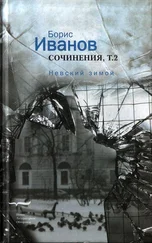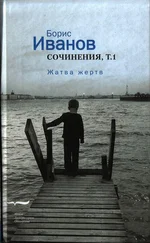И если Пушкин смог обойтись без Иванова, Иванову без Пушкина – никак: один альфа, другой – омега русской словесности, а без одной даже буквы алфавит не выстраивается, живая речь не звучит. А тут звучит во весь голос. Хоть Господу Богу выкричит Иванов, что на душе накипело:
Я с Богом говорю на «ты», И знаю – он не комплексует… Он предок мой, я – внук его, Он здравствует, а я хвораю. Вот, спрашиваю, для чего Пытать меня В дороге к раю?
Некорректно по отношению к чьим-то религиозным чувствам? А почему, собственно? Всевышний, в отличие от вышестоящих, в своём долготерпении спокойно переносит обращение на «ты», по-отечески. Откровенность – за откровенность. Богу Иванов не стесняется выложить всё начистоту:
Как православный христианин, Бывает, искренне молюсь, Когда болею или ранен. И сам себе тогда дивлюсь. Уж как приспичит – Все мы кротки, И крест на организм ложа, Хулой не оскверняем глотки, За свой живот, За жизнь дрожа.
«Без грамматической ошибки я русской речи не люблю», – смело сказал Пушкин. Великий поэт имел на это право – ему и простили. Иванов же (Этот) со словом борется и братается не по званию, а по призванию: душа просит, но не прощает чужой умонахрапистости. А иваново-этотские стишки не просто рифмы – поэзия изнутря!
Корявый язык у Бориса Иванова только в стихах, а мысли и слова в беседе всегда прямы. Ткни ему пальцем в корявость иных строк, он согласится спокойно: «Мы филологий не изучали». И выстроит тебе концовочку своих вольнодумных виршей шекспировской строкой:
…Но всё ж средь прочей суеты Мы с Богом говорим на «ты». Один – земной, другой – Всевышний. Возможно, оба мы – нелишни.
Иванов верит в гармонию человеческого. А как в неё не верить, если само имя его – плод такой гармонии: Борис – корень славянский, а Иванов – еврейский. (Помните ли, что «самое русское имя» еврейского происхождения и означает «хранимый Богом»? ) Крепок корень такого мужика. Такому веришь. Верится даже в то, что Борису Иванову ведом секрет достижения гармонии в нашем многоликом, многоверном обществе, когда Иванов обращается в мир: «Шолом алейкум, люди!»
Виктор АНТОНОВ, член Союза журналистов России. Борис Иванов (ЭТОТ)
Поэзия Бориса Иванова разная. Главное в ней, как мне представляется – полеты во сне и наяву над своей детской родиной: «Уже лечу я над тайгой, / Над марями в цветах залитых. / Босою трогаю ногой / Туман, меж сопками повитый» (здесь, скорее, сопки должны быть повиты туманом, но грамматическая и смысловая инфантильность не только не портит тексты Иванова – она является их законной стилистикой).
Стихи Бориса Иванова, как хороший калейдоскоп, складываются из самого разного, но всегда цветного материала. Наивность его классических, каких-то комаровских олицетворений сменяется явлением характерного русского «бедного гения», который «в голове застучался» (Балдёнков-Чижиков), а он – ироничной шансонной эротикой, а она – несколько обериутовской «весной, набухшей из штанов», а та – несколько разухабистой игрой ума в его «этотских мыслях». И т. д.
Его поэзия – это совершенно искреннее состояние, далекое от интеллектуальных или декоративных усилий. Она появляется, «когда душа возьмется напевать, а мозг неудержимо клокотать». Это именно что поэтический ген, который действует с той же непреложностью, что и мужская хромосома: «Я родом мальчик и могу / В том расписаться на снегу».
Поэзия «голомузой головы», как он однажды загадочно выразился.
Такие поэты приручают и одомашнивают любую банальность: фольклорную или литературную. «Васильковые очи» или «ночи любви» какие-нибудь. Эти стертые текстовые монетки вдруг начинают казаться вам приметами хорошо и правильно обжитого небольшого поэтического мира.
Например, Пегас у Бориса Иванова, как и положено, вдохновенный и быстрокрылый. Но честные интонации его поэзии рождают другой образ:
я почему-то представляю себе нашего поэта, гладящего по морде старую усталую лошадь, рядом с которой он прожил многие годы, и говорящего: ну что, Пегасушка, еще поживем-побредем…
Не знаю, как свою обычную жизнь, а свою поэтическую жизнь он обжил как хотел. В ней у него все на своем месте, хотя посторонний взгляд может увидеть в такой обжитости вопиющий беспорядок.
Ну и пусть увидит. Он же посторонний.
Читать дальше