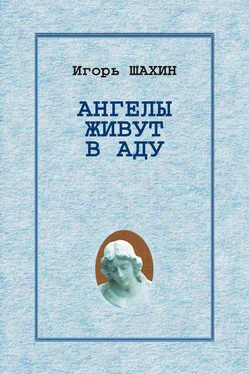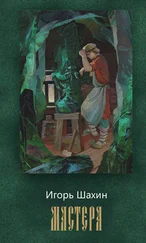В шкафу и шести ящиках огромного стола не прослеживалось никакой системы, и Ефимову стоило многих часов скрупулезного вчитывания в нигде не зарегистрированные протоколы, в незаконченные и не отправленные прокурору дела, в графики сводок, цифры которых рождались, как видно, в голове прежнего начальника отдела, во многое другое, пока он не понял, что системы в этом хламе никакой не было и быть не могло. Всевозможные бумаги запихивались в ящики, видимо, по той лишь причине, что выбрасывать их в урну предшественнику было неловко из-за того, что интеллигентного вида уборщица могла благодаря обычному женскому любопытству «рассекретить» степень его полезности на этом месте. Вполне возможно, что ни о чем подобном тот и не думал, а всего лишь со дня на день откладывал возможность начать новую жизнь.
Ефимову оставалось разобрать всего два ящика, но работал он с бумагами без прежнего энтузиазма и любопытства. Мало того, эти последние ящики вспоминались ему чуть ли не всякий раз после утреннего пробуждения и подспудно эмоционально окрашивали многие его решения и поступки каждого наступавшего дня. Он, словно бы соприкоснувшись с вещами больного человека, заразился его вирусом, но не свалился в постель, а благодаря еще крепкому организму переносил заболевание на ногах. Новая работа, новые сотрудники, предполагаемое им ожидание там, в «верхах», от него, Ефимова, нового поворота в делах отдела, а опыта – мизер. К тому же наметки, прикидки, графики, планы, отчеты предшественника незаметно вовлекали в свою болотцевую устойчивость, ложную апробированность. Сам Александр Валентинович называл это часто приходящее к нему состояние «обвалом чужой незавершенки».
Жена, раньше отдававшая дому, ему, детям большее время суток, одновременно с его переходом на новую работу ударилась в науку, решительно заявив, что мальчишки уже взрослые и теперь заниматься ими должен мужчина, отец, что для ее души одних уроков в школе маловато. В момент, когда особенно нужна была ее поддержка… Эх! Да еще эта беда с младшим сыном – простыня по утрам частенько оказывается с мокрым желтым пятном. Правда, в последние дни в его здоровье наступили перемены к лучшему. И это благодаря тому, что Черепанов привел хорошего врача-специалиста, но этот самый Кузнецов намеревается совсем уйти с работы, а обращаться к нему частным образом – это не совсем удобно, особенно, если по отношению к себе просто кожей ощущаешь необъяснимую, но стойкую неприязнь врача. С чего бы это он?..
Проблемы работы, семьи оплетали его невидимыми нитями все туже и туже, поэтому Александр Валентинович видел выход из этого положения не в кропотливом каждодневном распутывании этой незримой сети, а в резком прорыве. Он принял решение ходатайствовать в управлении о переводе из таможенного досмотра к себе в отдел тех ребят, с которыми работал, которых хорошо знал, чувствовал степень профессионализма каждого.
Перебирая пыльные бумаги, думая обо всем сразу, всячески стараясь оттянуть тот момент, когда надо будет нажать кнопку в торце стола, вызвать секретаршу, а через нее и всех тех, кто имел хоть какое-то отношение к сегодняшнему рейду, Ефимов пришел к окончательному решению – обсуждаться и анализироваться сейчас, здесь, в этом кабинете, будет версия «номер два», по которой всем должно стать ясно: просчитался он, и только он, начальник отдела, не продумав до мелочей всей операции. «Пусть оборотень, если он есть, успокоится и ведет себя более расслабленно, – подумал он. – А тем временем, если даже он и не раскроется, я, поменяв кадры, избавлюсь от него». Ему бы, с его анализом, заниматься не сыском, а социальными проблемами. Знай он о проблемах смены руководства на радио, или в детской больнице, или там, у самых облачных вершин государства, не мучился бы. Но, что поделаешь, в этой жизни, где родился, там и пригодился…
Ефимов, в который уже раз за эти дни, пододвинул к себе письмо, адресованное предшественнику, прибывшее, судя по обратному адресу, из мест не столь отдаленных; осторожно, чтобы то не порвалось на протертых сгибах, развернул и медленно перечел короткий, хорошо знакомый текст, и особо – подчеркнутые карандашом три строчки: «…я срок тяну, а гнида Грифильштейн, звался Аликом, на воле «кашу» хавает, фанеру на ней имеет…», «…я под дурика косил, хотел отказаться, но он паханом грозил, кликуха его Звонарь…», «…Алик цену набивал себе, у меня в поселке бракуши есть лучше…»
Ефимов уложил письмо в папку. Оно было маленькой, но хотя бы какой-то зацепкой. Майор, пока еще в самых общих чертах, выстраивал вариант «прорыва». Но это – позже, потом. А сейчас он нажал кнопку в торце стола…
Читать дальше