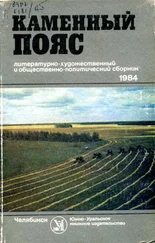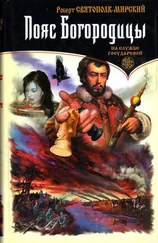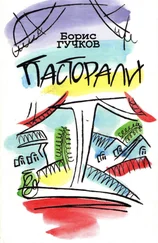Что сарафанным радио надуло.
И оказалась верною молва:
Растратчик. Отсидел. Едва под дуло
Не угодил – расстрельные дела!
Угодлив до слащавости, и гадом
Никто его в селе не назовёт.
Не то завмагом был, не то завскладом.
Но счетовод – так точно счетовод!
Обрёл растратчик и покой, и крышу,
И в Варькины объятья угодил.
По отчеству – Абрамович, а кличут
Не то Исаак, не то Иегудил.
Где подцепила? Кажется, в Рязани
Перебивался он, отбывши срок.
Привлёк её красивыми глазами
И хваткою хозяйственной привлёк.
Везде и всё карманными весами
Перепроверит, даже если ГОСТ.
И Варя величает его Саней.
Мужик, как бабы поняли, не прост.
Всё в дом и в дом. Хозяин, работяга!
А дом какой отгрохали – взгляни!
Всё ничего, когда бы не спиртяга…
«Ты, это, Варька, мужа приструни!»
На это Варя, подбоченясь, гордо
Всегда твердит заученно одно:
«Ещё чего! Никто не льёт вам в горло.
Вот Саня мой – совсем не пьёт вино».
«Все как-то вместе ехали в Исады…»
Все как-то вместе ехали в Исады.
Полуторку вёл хмурый мужичок.
Вдруг взял да и поведал нам о Сане
Чуть-чуть побольше Варин язычок.
«Ну, были мы в Рязани в ресторане.
Дороговизна жуткая – умри!
Со сценой рядом столики заранее
Заказаны солидными людьми.
А я-то в полушубке и с вещами.
Ну, знаете дорожный мой баул.
Нас поначалу с Саней не пущали,
Зачем-то посылали нас в аул.
Но Саня молвил: «Это… вы почутче!
Со мною дама. Мы не моряки,
Не чухлома какая и не чукчи.
Извольте-ка нам выдать номерки».
Да, Саня мой, он сроду не в «атасах».
Чай, за плечами институт тюрьмы.
Трояк всучил кому-то (при лампасах
Его штаны), и приземлились мы.
Присели и, оправясь от испуга,
Я оглядела зал из-за стола.
А блузка на мне, девоньки, из пуха,
Как скатерть, белоснежная была.
Оркестр гремел, а по тарелкам били
Седой старик и парень молодой.
Артподготовка в Сталинградской битве
Ничто в сравненье с музыкою той.
Затем на сцену выскочила гёрла,
А с нею восемь тёлок и коров.
Вороною во всё воронье горло
Закаркала. То дедушка Крылов,
Со школы помню, эти о вокале
Вороны глупой, стырившей сырок,
Сказал слова. Хоть водку все лакали,
Так голосить нельзя, помилуй Бог!
В меню – такая книжечка во злате —
Грибы мудрёно названы «жульен».
Им бы откушать нашей благодати
С домашнею сметаною! «Жульё!» —
Так и сказала. Слышал даже повар.
У той, что Саня гёрлой величал,
Видать, до спазм перехватило горло,
И нить бретельки поползла с плеча.
Нас почему-то, как героев павших,
Угрюмо провожали в гардероб.
В гостиницу не солоно хлебавши
Вернулись на перины мы сугроб.
Да, вспоминаю, там тарелки била
Любовница какого-то осла…» —
«А дальше, Варя, дальше-то что было?»
«А всё, что и бывает опосля!»
«Помню, что было холодно. Помню, были наги леса…»
Помню, что было холодно. Помню, были наги леса.
Ранней весной, на Сретенье, снег ещё не сошёл,
Случилось в селе событие,
достойное книги Гиннесса:
Срок отбыв наказания, Кузин пришёл Сашок.
«Только что из колонии!» – бабы в селе заахали. —
Ой, а худой-то, батеньки! Смирен на вид, а так…»
Брата его припомнили, как тому забабахали
За бандитизм и насилие, кажется, четвертак.
Кузин проведал родичей и наведался в чайную.
Выпил портвейна красного и, распахнувши дверь,
Молвил во всеуслышанье:
«Совесть, односельчане, моя
Чище стекла теперича, чище стекла теперь!»
Эх, до чего ж преступники на повороты резвые!
Спец по делам поваренным, пробуя острый нож,
Кузин этим же вечером курами не побрезговал —
Шеи свернул двум Вариным и Полининым тож.
Утром по следу снежному взяли его с подельником,
Тоже с башкой бедовою, хоть оторви и брось.
Новое дело Кузину завели с понедельника.
Следствия, как мне помнится, быстро крутилась ось.
Помню, по репродуктору что-то Эмиля Гилельса
Передавали. Славный он всё-таки пианист!
Бабы мудро заметили: «Надо бы в книгу Гиннесса
Случай сей оприходовать.
Кузин – большой артист!»
Читать дальше