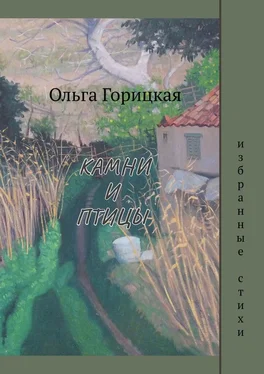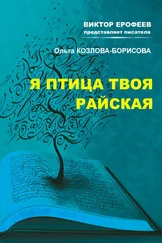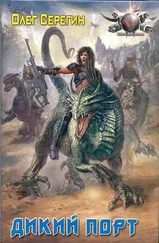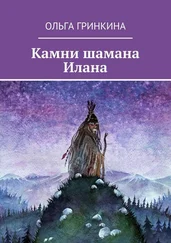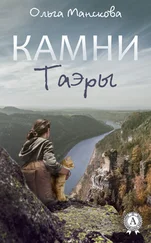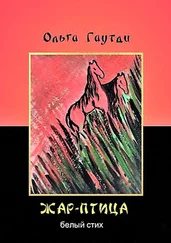Да здравствуют-царствуют зимы, пока
Века и пространства под снегом едины,
Пока не намяты сугробам бока,
Не бредят восстаньем разбойные льдины,
Пока не расколот последний орех
Из вечных запасов рождественской елки —
Неведомо сколько обид и прорех
Латали ее колдовские иголки
Серебряной нитью застывших дождей —
Она и сейчас меж ветвей наготове,
Как слезы у нищих, и власть у вождей,
И мир у поэтов – в единственном слове…
Что можно выбросить из этого стихотворения, что можно передвинуть? Каждый эпитет, каждый образ на своём месте, но это нисколько не мешает свободному дыханию стиха. Кажется, это стихотворение было всегда. Всё просто и знакомо, и одновременно какой чудный мир дарит поэт нам, его читателям.
Словно высеченная из камня, мудрая, афористичная концовка. Афористичность вообще свойственна стихам Ольги Горицкой. Листаю наугад страницы книги и сразу натыкаюсь на ёмкие чеканные фразы:
Пойдем, моя любовь, от счастья до беды,
А если не спешить, успеем и обратно.
Мир поделен на пусто и густо.
Посредине – гнездится душа.
Смерть и впрямь непереносима.
Смерть сама переносит нас.
Провинция – не ссылка потому,
Что заняла вакансию плаценты.
Вечные темы: любовь, жизнь человеческой души, смерть, Родина, Вера. Трудно, кажется, найти какие-то новые слова. Всё написано давным-давно. Но Ольга Горицкая находит их, эти новые слова.
Когда читаешь чьи-либо стихи, отличаешь настоящее от подделки по внутреннему отклику. Зарифмованные строчки отзвука не дают. Читаешь только глазами. А вот когда после прочтения в душе долго стоит эхо…
Читаю книгу Ольги Горицкой – и всё время чувствую внутри это многоголосое эхо, то нежное, бередящее, то подобное звуку старинного колокола, идущему из самых глубин…
Интересна композиция книги. Проследим её по названиям разделов: «Гостиная Бога» – «В посёлке Вифлеем» – «Умножать на любовь» – «Заклинать пустоту» – «Мудрость наружно глупа». Кажется, автор с помощью такого деления обозначает главные темы. Но это не совсем так.
«Гостиная Бога» – родная природа, Божий мир в представлении автора. Тема, кажется, определена, но сколько дополнительных оттенков автор добавляет к ней. Это и очеловечивание природы, и слияние человека с ней, и красота родного края, и любовь к нему, и многое ещё… С помощью последних стихотворений раздела – уже процитированного мной «Морозного неба с оттенком золы» и рождественского стихотворения «Как разноцветна близость темноты…» мы плавно переходим к новой части «В посёлке Вифлеем».
Посёлок Вифлеем. Сразу думаешь, почему – посёлок. А потому, что меняется мир, а люди, человеческая природа остаётся, к сожалению ли, к счастью ли, почти неизменной. И то, что случилось более двух тысяч лет назад, можно представить или увидеть и сейчас.
Разве не знакома нам вот эта картина:
Чуть-чуть нетрезвые, увы,
Спешат по улицам волхвы
С пакетами даров.
И Богоматерь дышит ртом,
Поскольку холоден роддом,
Но Иисус здоров.
Вот так и живём, «смешав частушки и псалмы». Вифлеем – место жизни нашей и одновременно место рождения чуда. Ждём его, сажая картошку «в сезоне лиственном и кратком», чувствуя в себе «человечью ли, птичью» душу, которая всё время отчего-то болит (а есть немало на то причин и внутри, и снаружи) и спрашивая себя, «не это ли счастье, когда огурец малосолен,// а кот полосат, а домашний не зол и не болен,//и власти, задумав, как водится, новый виток, //позволят и нам, и себе передышки чуток».
Картинки жизни, нарисованные поэтом, здесь, сейчас, в родном уральском краю, странным образом перекликаются с тем давним, библейским. Вот и раскаявшийся разбойник, у которого «ни родителей, ни дома, ни жены – кореша, кожан да зубы с желтым блеском…», одаривающий соседей по купе апельсинами, и «похмельный, бесцельный, бесхозный Адам», и Гавриил, который уже не в силах различить, «кто гож для рая, кто для ада». И смотрит на всё это «простодушная звезда», и всё-таки дожидается чуда: «Ты слышишь? Дитя закричало».
«Умножать на любовь» называется третий раздел книги. Все раздумья, все боли о родной земле «умножены на любовь». Какое счастье дано поэту, живущему в России, обладающему такой, «умноженной» любовью… Приносит она особенное видение мира, при котором замечаешь, как «качают травы в колыбелях ещё грудные семена», а «по разглаженному краю» небес «мчится перелётная звезда». И совсем не трудно «из Азий босиком перебежать в Европу», хоть и заслоняет её Конжак. И хорошо, что «еще не близки сроки окончания пути», что ещё «в душе такие строки…»
Читать дальше