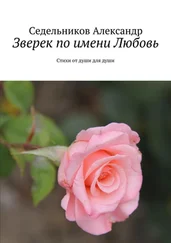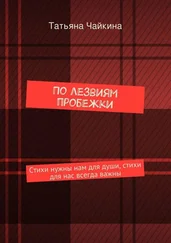пылятся, бедные, без толку,
их только я и вынимаю.
Вот привезли опять коробку.
Все свежие – из типографий.
Встречается автограф робкий,
ну, типа, самоэпитафии.
Присвоен инвентарный номер.
Штамп на семнадцатой странице.
И автор для потомков помер:
отправлен бережно храниться.
Тут и моих есть две-три книжки,
на них гляжу я с грустным смехом,
но все ж замечу: эх, братишки,
для сердца творчество – утеха.
Всем, кто стремится за лекарством,
лекарства выдает аптекарь.
А в нашем мирном сонном царстве
аптекарь я – библиотекарь.
Готов вас вылечить бесплатно,
снадобий у меня навалом.
Не больно. Быстро. Аккуратно.
Но пациентов что-то мало.
Спешите в лабиринты полок,
скорей, под ламп настольных нимбы!
Эх, жаль, погиб во мне филолог!
А если б выжил, мы бы с ним бы…
В безумном, сумасбродном веке,
сплошь состоящем из подвохов,
жизнь провести в библиотеке,
поверьте мне, не так уж плохо.
Мне знаком был некто Гений,
(кем себя считал он втайне).
Был он пленник заблуждений,
выделю одно из крайних:
Он хотел проникнуть в вечность,
в памяти людской остаться
с чем-то очень безупречным,
чтоб мог всякий наслаждаться.
– Никогда! – кричал он, – never!
Дух мой втуне не исчезнет.
Прежде чем создам Шедевр
не сразят меня болезни.
Не пугает меня случай,
обстоятельства – бессильны.
Ведь в душе есть света лучик,
яркий, цвета апельсина.
Он мечтал, стихи слагая,
и холсты марая краской,
в целом, не изнемогая,
без боязни и опаски.
Верил, пробовал, пытался,
жил, ногой упершись в стремя,
но шедевр не получался.
Ничего! Еще есть время!
Что в мозгу его творилось?
Был ли кто его кумиром?
В собственном соку варился,
невостребованный миром.
В нем звенел какой-то зуммер,
гнавший умиротворение.
Но однажды Гений умер…
Взял и умер. А Творение?
Пятнадцать лет ты мне другом был,
верным, храбрым, надежным.
И каждым утром меня будил,
лизнув лицо осторожно.
Тебя щенком я принес домой
в эпоху социализма.
Менялось всё, только ты со мной
прошел сквозь все катаклизмы.
Но стал ты болен и слишком стар,
ни есть не мог, и ни пить.
Сказал, как отрезал, ветеринар,
что надо тебя усыпить.
Тебя подозвал я в последний раз,
о чем пожалел потом.
Ты выполз хмуро, увидел нас,
и вяло вильнул хвостом.
Мохнатая морда – не видно глаз.
Эх, псина, ты что же, ну!
Неужто время тебе сейчас
предаться вечному сну?
Тот, в белом халате, принес покой,
в короткой, быстрой борьбе.
Тебя убил я его рукой,
пытаясь помочь тебе.
Встретимся, может, на свете том.
Ну, что ж, тогда обещаю:
хозяином станешь, я – верным псом,
таким же как ты, прощай!
А буду в собачьей жизни простой
болеть, так не жди ни дня,
И надо мной на коленях не стой,
ты усыпи меня…
Один поэт попал в пути́ну
(случайно как-то занесло).
Другой – влип пальцем в паутину,
вручая первому весло.
Вдвоем им было все едино,
им рыбу требовалось взять.
У рыбы этот поединок
они выиграли опять.
Счищая чешуи патину
с вонючих, скользких рыбьих тел,
усердно оба гнули спины.
Один замерз, другой вспотел.
Чтоб за работою рутинной,
набраться свежих новых сил,
таблетками аскорутина
поэт поэта угостил.
Но хмуро бросил работяга:
ты лучше б «Путинки» мне дал.
Достал второй немедля флягу,
ему не нужен был скандал.
Он был поэт, причем партийный,
к тому ж, сам выпить был не прочь.
Какая милая картина:
поэты, водка, рыба, ночь.
Кругом все тихо и пустынно,
застыла лодка у моста.
Под новгородскою пятиной
особо рыбные места.
Встречи с тобою редкие,
жертвуя жизни планами,
руки тяну я ветками,
к телу мне столь желанному.
Бровей изогнуты линии
над спелыми глаз маслинами.
Косыми ресниц ливнями
пьянишь сильнее, чем винами.
Плывешь ты легкою лодкою,
качая бортами-бедрами,
чудесной своей походкою
мужчин, собирая, ордами.
Душистой волос мятою
ласкаемо обоняние.
Душа тобою измятая,
и чувствую, будто – я не я…
В изящной ладошке комкаешь
ты сердце, да так, что следу нет,
и мне остается только лишь
любить, за тобою следуя.
Читать дальше