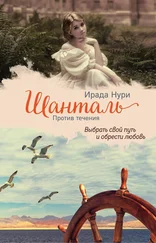«Настанет ночь, и в тёмном полусне…»
Настанет ночь, и в тёмном полусне
вернётся ночь – из тех, что были прежде, —
в больном бреду, в болезни, в полусне
я позову тебя – и ты придёшь ко мне,
как приходила в сны и в ночи прежде:
таящаяся, жаркая, нагая.
Обманет ночь, и женщина другая,
к моим губам спросонок припадая,
горчащий вкус измены ощутит, —
и в сне моём меня во сне простит,
без слов поняв чутьём животным, древним —
по ком я плачу…
Остаётся ночь,
а ты уйдёшь путём ночным и древним,
бледнеет тень, и тает льдинкой имя,
и не понять, зачем теперь с другим, и…
Прими (он твой) последний стих,
к тебе – склонясь в земном поклоне:
искал я прелестей земных
в непостоянстве глаз твоих,
в живом тепле твоих ладоней
и в грешной мгле твоих волос. —
В нас небо дальнее слилось
с землёй (земля ли в небе тонет?),
и нас к земле от неба клонит.
…Но это счастием звалось.
1984–1987

«…Ибо радостям нашим назначен предел, за которым…»
…Ибо радостям нашим назначен предел, за которым —
пустота пресыщенья и скуки горчащий настой, —
день всегда беспощаден, и странным покажутся вздором
мой восторженный шёпот и лепет предутренний твой.
Ибо там, где мы жили, – вминали немые ступени,
поднимаясь к блаженству бессонных и дымных ночей,
навсегда затаились и дремлют неясные тени
наших тел, наших зим, вёсен, лет, осеней…
Ибо там оставаясь незримо, забытые всеми,
мы сомкнули объятья и в замкнутом мире живём, —
но уже не вернуться туда нам – безжалостно время! —
днём с огнём не найти нам дороги туда, днём с огнём.
1994
Не лечит время. Верный пёс —
не чуя ног, слепой от слёз, —
который раз приполз, чуть жив,
в глазастый мир дворов чужих,
в чужой уют, мой свет в окне…
Зачем приник к чужой жене?
Просил спасти. Молил помочь.
Один лишь день, одну лишь ночь,
всего лишь жизнь побудь со мной!
В прохладу рук и в алый зной
внутри тебя – меня впусти…
Просил помочь. Молил спасти.
Могла спасти – и не спасла.
Теперь прощай. Не помни зла.
Не поминай. (Рассвет бескрыл.)
Не помню зла… я всё забыл.
Могла помочь… я всё простил.
Как я люблю тебя… любил.
1998–1999
«Ночь декабрьская. Мгла сырая…»
Ночь декабрьская. Мгла сырая.
Ветер. Оттепель. Не до сна.
Примостившись в постели с краю,
спит беременная жена.
Спит, кудрявая. Спит, не слышит,
как меня любопытство жжёт,
как спокойно и ровно дышит
переспевший её живот,
как пронзает испуг невольно,
если вдруг – рассердясь порой —
в ухо ножкой толкнётся больно
беспокойный ребёнок твой…
1982
Сегодня я так странно тих.
Теперь забудь жёлчь губ моих.
Былым словам не верь. Я лгу.
Я нашей памяти бегу,
и бег свободен – и отчаян.
В иную, в светлую страну,
сминая памяти волну,
моих печалей чёлн отчалил.
Я у колен твоих уснул.
И сон склонившийся – сутул —
тобой укутывал меня.
И там, во сне, я был тобой,
во мне дышал ребёнок твой,
и кровь дремотная струилась,
не согревая, не маня,
и сердце медленное билось.
Как ты измучила меня!
В какой-то сладостной гордыне
ты, верность женскую храня,
мне не была верна доныне.
И семя будущего зла
тая во тьме души острожной,
была такой неосторожной,
такой небережной была.
Была.
1984
…мы те
двуспинные чудовища…
…как зыбок мир в игре теней и света,
как странно слаб в борьбе со страстью ум;
а ты лежишь, чиста и неодета,
и стыд паденья сладок; и угрюм
ночной пейзаж; угрюм и сладок воздух;
тела чисты, светясь во тьме, лишь там,
у бёдер, тень полночная; и складок
гардины лёгкой тени по углам
волнуются; задавленный, глубинный
проснётся зов – и поведёт во тьму
покорный ум; и дивный зверь двуспинный
тела сомкнёт в объятьях, и ему
не хватит ночи; а в оконной раме
во весь проём рассвет лучи слоит;
и сладок стыд – и дивный зверь губами
тела ласкает дивные свои…
1983
Который год – в безумии моём —
мне снятся сны цветные. Просыпаясь,
с тоской привычной век не поднимая,
я скучно знаю, что опять увижу
мир наших зим двухцветный, чёрно-белый,
в проём окна оправленный, как в раму,
знакомый мир. А между тем другая
ещё стоит картина и не тает,
расцвеченная красками, живая,
такая непохожая на мир.
И век не поднимаю я, и с грустью
я сетую на то, что не сподобил
меня Господь художническим даром.
Читать дальше
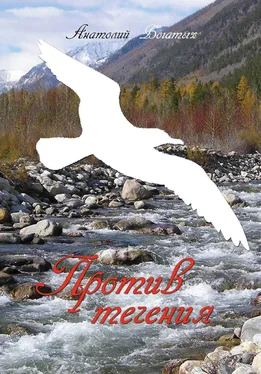





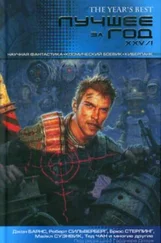



![Борис Рогов - Против течения [СИ]](/books/412248/boris-rogov-protiv-techeniya-si-thumb.webp)