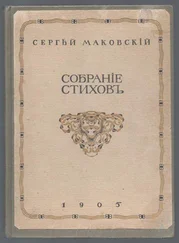Женева, 1939
3. «Только небо узрят очи…»
Только небо узрят очи,
только день забрезжить твой,
уж витают тени ночи
над поникшей головой.
Вещий Гамаюн проплачет,
и конец, конец судьбе…
А подумать: только начат
путь, назначенный тебе.
Париж, 1939
4. «Когда проходит жизнь, когда прошла…»
Когда проходит жизнь, когда прошла,
и цели нет, и нет возврата, —
как старый сыч, из своего дупла
жди сумеречного заката.
Очами дневными нельзя постичь,
во мраке зорче видят очи.
Угаснувшего дня вотще не кличь,
дождись всеозаренья ночи!
Париж, 1940
5. «Опять на солнечной вершине…»
Опять на солнечной вершине
таинственно сомкнулся круг, —
ни встреч разлучливых отныне,
ни связывающих разлук.
Опять, на старость глядя, юный,
один отшельником живу,
разгадываю сердца руны
и вижу сказки наяву…
Париж, 1923
6. «Солнце, солнце, звоны тишины!..»
Солнце, солнце, звоны тишины!
Голову апрельский воздух кружит.
Запах ветра, голубые лужи,
трепет расслабляющий весны.
Талый снег бурливые ручьи
заплели в узоры на полянах,
плавится в дымящихся туманах
розовое золото земли.
Прага, 1921
7. «Любовь, балуя напоследок…»
Любовь, балуя напоследок,
опять наведалась ко мне.
Вкус любви все так же едок,
нет воды в ее вине.
Причастье страстное все то же,
и так же чаша глубока,
счастье на тоску похоже,
счастьем кажется тоска.
Женева, 1929
Скеле («Быль пасмурный Февраль. Всходила чуть трава…»)
Быль пасмурный Февраль. Всходила чуть трава,
белели в порослях подснежники лесные,
пустынный вечер гас и золотил едва
крутые скаты гор и тучи дождевые.
Местами на камнях весенний таял лед,
и было холодно. Шумел поток в ущелье.
Измученный тщетой томительных невзгод,
не радуясь весне, я брел на новоселье.
Куда? Не все ль равно! Я шел вперед, вперед,
к мешку дорожному приучивая спину,
туда, где не было южнобережных вод,
через Шайтан-Мердвен в Байдарскую долину.
Без цели, наугад. Скорей, куда-нибудь!
Дубы корявые, ободранные буки,
как злые нищие, мне преграждали путь,
шипы кустарников кололи больно руки.
Все выше между скал вилась моя тропа.
Вот — перевал, и вниз кремнистая дорога,
и снова хилый лес и камни и толпа
коряг обугленных, черневших так убого…
И вдруг, — о, волшебство! — передо мной простор,
согретый ласковым, лучисто-нежным югом,
и в золоте зари чуть видимый узор
холмов, раскинутых широким полукругом.
Я ахнул… Никогда, нет — никогда во сне
мне мир не грезился чудесней и безбрежней,
и Божья красота не улыбалась мне
спокойнее, добрей, блаженней, безмятежней!
Прохладная изба. Из окон вдовий двор, —
колодезь, клумбы роз, табачные сараи,
соседок за стеной нерусский разговор,
индюшек и гусей звонкого косых стаи…
Мне все отрадно здесь, милей день ото дня:
оладьи на обед и к ужину султанка,
и эта пасека у ветхого плетня,
и хлопотливая хозяюшка-гречанка,
ее рассказ о том, как нынче трудно ей
управиться одной с работой деревенской,
и выводок ее подростков-дочерей,
смущающих меня задумчивостью женской…
Страдою полон день. С утра и млад и стар
в чаирах боронит и поливает гряды.
Не умолкает скрип нагруженных мажар,
свершаются труды, как тихие обряды.
Не налюбуешься! В окрестности брожу, —
Все тропы исходил… В Узундже и Саватке
друзей моих, татар, я навещать хожу:
люблю наряды их и гордые повадки,
неторопливый пляс на свадебных пирах,
и верность древнюю гостеприимства праву,
«селямы» важные, и в сакле, на коврах,
степенный разговор и кофий по уставу.
Настанет вечер. Тишь. Кузнечик засверлит,
у завитых плетней — играющию дети.
Мазин задумчивый на минарет спешит,
и молча старики присели у мечети.
Отчетливо звенят гортанный слова
в вечернем воздухе, протяжный как стоны.
Им вторить иногда, вдали, едва-едва
церковный колокол. И вместе плачут звоны.
Читать дальше