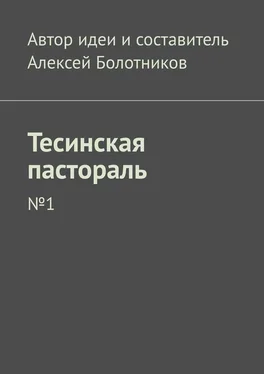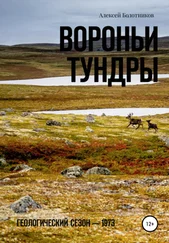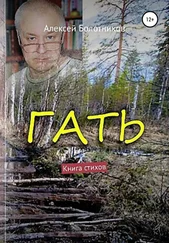Шкалик свято верил в свое членство. Может быть, это и есть путь наверх, к возвращению. Но листки продолжал бросать, не утруждаясь пропорциями. Надька – своя. На ней негде ставить пробы. Завтрашний день, приносящий пищу, пока не брезжил. И Шкалик действовал нервно и решительно.
Скоро дрожь прекратилась. Было приятно брести по пустынному мраку избирательного округа. Прохладный августовский морок, опускаясь на город, прижимал к земле одинокую фигуру агитатора. Она, согбенная, словно лунный блик, скользила по закоулкам, совершая свою просветительскую нужду. Шарахавшийся из подворотни кот или иной неопознанный шорох ненадолго тормозили движение миссионера из «Отечества». Выстаивая в темном углу, он страстно мечтал поскорее закончить и… принять.
На исходе рабочей смены Шкалик совсем раскрепостился. В почтовый ящик и просто между двух штакетин он вкладывал уже по пять-шесть листов и готовился к победному завершению, когда случилось нечто невероятное.
Потеряв, очевидно, бдительность, на темном перекрестке улиц – грудь в грудь – Шкалик вдруг столкнулся с батькой Щетинкиным. С памятником в папахе! Так показалось в первое мгновение. Сшибка произошла внезапно, и удар был так силен, что Шкалик припал на колено и выронил оставшийся пакет агитационных листов. Они веером рассыпались по асфальту.
– Ты чо, гум-моза?! – крикливо и приглушенно вопросил памятник, словно у него перехватило дыхание. От неожиданности и он опустился на оба колена. – Зенки, блин, за-а-лил?
Из тысяч голосов Шкалик узнал бы этот милый фальцет. Из сотни тысяч определений выделил бы эти «гум-мозу» и «блин», пропитавшие насквозь всю человеческую сущность старого «закадыки», корешка и сподвижника Мишки Ломоносова. Шкалик, как при лампе в сто свечей, разглядел знакомую папаху и поломанный – сбитый набок – нос.
– Ты чо, Лом! – обрадовавшись, опускаясь перед Мишкой на второе колено, завопил Шкалик. – Своих не узнаешь?..
«Памятник» растерянно остолбенел. И, словно слезая с постамента, скованно попытался подняться.
– Ты… Женька? – нерешительно спросил он и, высвобождаясь от шока, снова завопил: – Ну ты меня кан-танул, гуммоза прелая! Ты куда когти рвешь? Чо это у тебя?.. Банк, блин, взял?
– Я, Лом… Это же я! А ты откуда пылишь? Какой на фиг банк… – в такт Мишке отвечал Шкалик. – Я же, дядь Миша, халяву надыбал! Постой, а чо мы сидим… на карачках?
И они поднялись с колен, словно воспарили над тротуаром, над этим темным городом и над собственным испугом. Заповедный лес дубоподобных страхов рассыпался в долю мгновения. Блаженное тепло адреналина, точно стакан водки, принятый натощак, прокатилось от голов до пят наших ночных героев. Они нюхом и осязанием ощутили реальный мир во всей его прелести и гармонии.
– Я же тебя за памятник принял, Лом! – вдруг вспомнил Шкалик. – Думал, у него крыша поехала…
– У тебя самого, видно, гуси гуляют. Какой памятник? – кореша отрясали колени.
– Какой-какой… В папахе, как у тебя… Щетинкин называется! Там стоит, напротив фээсбэ, – и Шкалик показал куда-то во тьму.
– Этот, что ли? – уточнил Ломоносов, показывая в противоположном направлении.
– Ага, он… – узнал Шкалик. И переменил тему: – А ты чо здесь шаришься, как кот мартовский? Вроде, не март.
– А ты?
– Так я же говорю: халяву надыбал… За «Отечество» призываю, за движение, то есть.
– За отечество? Погоди, ты чо меня, гуммоза, кантуешь? Мозги паришь… Это у тебя что за прокламашки?
Шкалик стал собирать листки. Ломоносов наступил ботинком на последний.
– Колись, Шкалик. Кто у тебя здесь пропечатан?
– Не знаю. – чистосердечно признался Шкалик. – Не читал.
– Опять впариваешь… Темнишь, значит. А я с трех раз догадаюсь. Усек я! Ты на «Медведя» работаешь, а? В деле, да? Не блефуешь?
– Не… – приходя в себя, обретая вес и статус, Шкалик доходчиво объяснил, – на «Отечество», на центристов, значит.
– А я на Медведя! – вдруг не менее важно признался Гришка. – На капэрээф! – И он вытащил откуда-то из темноты, словно важный вещдок, помятую кипу газет.
– Постой-постой, – заинтересовался Шкалик, – это на какого медведя? Где чемпион или где… этот?
– Какой чемпион? Ты чо, центрист, газет не читаешь? На, читай, – и он сунул в руку Шкалика ветхий ком газетной бумаги. И тут же переменил тон. – Погоди, Женька… А какой у тебя тариф? И чем платят? Токо не ври, мне прицениться надо.
– Стабильно, – зачем-то соврал Шкалик, – наш политсовет Прогиндеев в авторитете. Он ворованными ранетками платить не станет, исключено…
Читать дальше