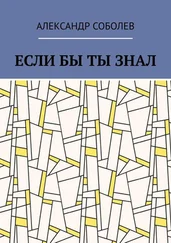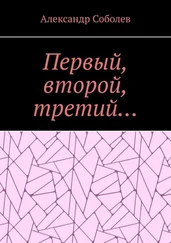«Коля с Людой здесь были» – гласит граффити наскальное.
Мира вам, соплеменники! Здравствуй, великий Ра!..
Я бреду по берегу, занят богоискательством,
я ищу куриного бога в который раз.
Загорелый, поджарый, довольно-таки валидный —
я иду вдоль моря. Так мысли мои светлы,
так чисты стихии, что на́ небе звёзды видно,
а на дне – жемчужницы, стоит чуть-чуть заплыть.
Мельтешат золотинки, искринки с «Чёрного принца» [6] Корабль, затонувший с грузом золота.
,
вызревают икринки счастья в лёгкой волне…
Вот он, принцип духа в материи, Вечный Принцип!
И напрасно искать, где бы он явился полней.
Подмалёвок?.. эскиз… гениальный Рая набросок! —
этот мир пропитан волшебным живым огнём.
Несомненно, сегодня мне встретится бог неброский
и глазком куриным приветливо подмигнёт.
Медитация на красном георгине
В осеннего воздуха медленный ток
небрежной рукой вплетена паутина,
и мощный, раскидистый куст георгина
венчает прекрасный цветок.
Как слизень, в слепом летаргическом трансе
сквозь влажные дебри пластинчатой чащи
свое существо незаметно влачащий —
так взгляд, замирая на каждом нюансе,
скользит осторожно по зелени темной,
вдоль русел прозрачного терпкого сока,
сквозь тени и блики восходит истомно
к цветку без греха и порока.
Не темпера, не акварель, не сангина
смиренно творили цветок георгина,
но плотное масло, мазок за мазком.
Он алый, как крест на плаще паладина,
и темно-багрова его середина,
и с плотью планеты извечно едина,
и звездам он тоже знаком.
Он в душу вмещается полно и сразу,
и в ней позабытый восторг воскресает,
и пиршество глаза – на грани экстаза,
когда откровением вдруг потрясают
отшельника – лики на створках киота,
а кантора – громы классической фуги,
спартанца – кровавая рана илота,
любовника – лоно подруги.
Он цвета любви, полыхающей яро,
родник нестерпимого красного жара…
И поздние пчелы стремятся к летку,
вкусив от его бескорыстного дара,
и солнце – сверкающей каплей нектара,
и первая чакра моя, муладхара,
раскрыта навстречу цветку.
«Туман… туман… Сырая пелена…»
Туман… туман… Сырая пелена
грунтует холст…
Полста вторая осень
сезонной меланхолии полна.
Белёсый воздух плотен.
Иглы сосен
его сгущают в бусины, да так,
что каждая надета на хвоину,
принадлежа ветвям наполовину,
но тяготея к травам. Это знак,
что нам уже не светит бабье лето…
Иные кроны догола раздеты,
а рядом – шамаханская парча,
этюд в академическом альбоме
за тонким слоем кальки.
И любое
движение: скольжение грача,
неторопливый клок печного дыма,
грибами порастающий пенёк —
от мутного белка неотделимы.
Летит неяркий жёлтый огонёк,
за ним летит через минуту новый…
Паучья сеть становится основой
для ткани медитации, устав
висеть без дела… бисерные нитки
растянуты на лозах…
Две улитки
на ложе виноградного листа
осенних чувств испытывают прелесть
и делают, что в голову взбрело,
под кисеёй тумана, в нежной прели
преображаясь в чувственный брелок.
В природу запустенье внедрено…
Лежат лужаек рваные татами,
где колтуны примятых бурьяно́в
привычно вспоминаются цветами,
но, впитывая утреннюю мглу,
цветут – ты не поверишь! – анемоны,
друг другу уступая церемонно
последнюю бездомную пчелу.
…Вот новый лист по воздуху несёт,
сбирает лепту время, строгий мытарь.
Всё млечно, растушёвано, размыто
и тихо всё…
Утречко октябрьское сыро и пасмурно.
Ночь неторопливо снимает покров
с гроздьев кабошонов под сизою патиной,
с бусин драгоценных овальных миров.
Розовыми лозами осень увенчана,
жалована лучшей из славных наград.
Щедрый, как надежда, и сладкий, как женщина,
в воздухе туманном висит виноград.
Сад мой, вертоград мой унылым не кажется.
Кончилась повинность копать да полоть,
вызревшими каплями, ягодой каждою
светится его благодарная плоть.
Сроков не отменишь. Редеет над светочем
зазимком прибитый поникший наряд.
Листья обвисают истлевшею ветошью,
но, разоблачённый – висит виноград!
Кисти налились аметистовым бременем,
соками суглинка, водой кочевой.
Скорби виноградарей, злое безвременье —
всё-то повидал, всё ему ничего.
Читать дальше