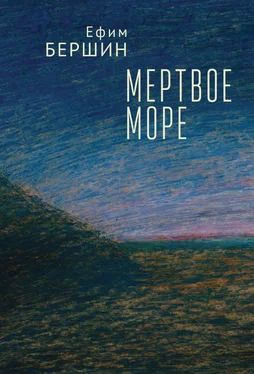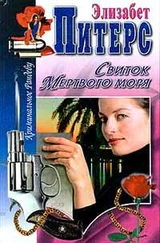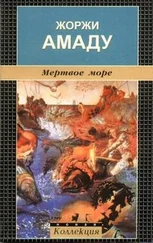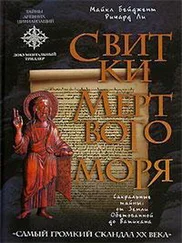«Что музыка? Один звучащий воздух…»
* * *
Что музыка?
Один звучащий воздух,
украденный у ветра и калитки.
Мы тоже кем-то сыграны на скрипке.
И, словно тополиный пух, на воду
садящийся, мы тоже безъязыки,
как первый снег или ребенок в зыбке,
как легкий скрип январского мороза.
Исторгнутые, словно сгоряча,
размашистым движеньем скрипача,
ни замысла не зная, ни лица,
обречены до самого конца
искать следы шального виртуоза.
«Ничего не прошу – ни хлеба, ни очага…»
* * *
Ничего не прошу – ни хлеба, ни очага.
На иконе окна под музыку листопада
догорает тополь,
гаснут Твои стога
потому что – осень.
И мне ничего не надо.
Догорает тополь.
Время медленно движется к октябрю.
И, мгновенные истины у дождя воруя,
нет, не «дай» говорю,
«возьми», – Ему говорю.
Потому что сегодня я дарую.
«Сырое одиночество огней…»
* * *
Сырое одиночество огней.
Промокший бюст народного артиста.
Летит квадрига клодтовских коней
сквозь мелкий дождь, как колесница Тита,
с Большого – в направлении Кремля
над стройкой, подпираемой кружалом,
над сквером, где трезвонят тополя
набатом перед будущим пожаром.
По улицам горбатым и косым,
неудержимо следуя прогрессу,
летит сквозь дождь Веспасианов сын,
влюбленный в иудейскую принцессу.
Уже давно распяли на заре
юродивого юного раввина.
И напряженно дремлет на золе
сожженная российская равнина.
И с Храма, заслонившего пустырь,
смывает дождь остатки позолоты.
Молчит Христос. Безмолвствует Псалтирь.
Не спят в Кремле кремлевские зелоты.
И поутру, покинув Мавзолей,
всесильный Ирод на всеобщем рынке
недоуменно бродит средь людей
и милостыню просит на Ордынке.
А люди, вырываясь из оков,
копают в рост ненужные окопы.
И, заглушая сорок сороков,
заводит Бах тревожные синкопы.
А дождь идет, холодный, проливной,
глухим напоминанием о Боге.
Я молча дирижирую луной
и больше не мечтаю о свободе.
Покуда мы свободою горим,
горят костры, смещаются границы.
Тоскует Русь.
Изнемогает Рим.
И Ирода украли из гробницы.
«Чужой, как Иосиф, забытый в колодце Москвы…»
И взяли его и бросили его в колодец;
колодец же тот был пуст; воды в нем не было.
Бытие; 37-24
* * *
Чужой, как Иосиф, забытый в колодце Москвы,
в бездонном дворе, где за окнами сушатся маски,
за то, что уже не умею молиться, как вы.
Ноябрь на пороге. Уже ни листвы, ни травы,
ни сна, ни покоя, ни даже купцов Медиамских.
Плывут облака, оставляя на небе следы.
Трясутся под небом горбатых строений верблюды.
И светятся храмы. Но так не хватает воды.
И новые люди опять вырубают сады.
Но я не умею молиться, как новые люди.
Не помню уже, из какой это было главы.
Тускнела над миром луна, как разбитая фара.
За то, что уже не умею молиться, как вы,
меня продавали в страну, где уже ни травы,
ни сна, ни покоя, а только жена Потифара.
И брат сумасшедший, сбежавший с картины Дали,
пасет надо мной на веревке ночную ворону.
Но я уже слышу полет колесницы вдали,
где вновь обретает обличье в кромешной пыли
под звуки Шопена зловещая тень фараона.
«Юродивый, дурак, потомок пилигрима…»
* * *
Юродивый, дурак, потомок пилигрима
на улицах Москвы творит под Новый год
молитву на уход из Иерусалима.
Молитву на уход.
Молитву на уход от храма и допроса,
от судей и суда.
Раздавленный тоской,
как будто от зевак на Виа Долороса,
уходит от толпы по каменной Тверской,
где из больших витрин спокойно, как со сцены,
играя свой спектакль с улыбками детей,
на площадь у метро выходят манекены
и бродят средь людей.
Осанна храбрецу, бежавшему от крови,
от мелочных измен, от заполошных дур,
от славы и от той пока невнятной роли,
которую внушил всевышний драматург.
Пока в больной душе еще мерцает вера,
и белый снегопад захватывает в плен —
осанна храбрецу, от камня Агасфера
бежавшему назад в блаженный Вифлеем,
где сеном дышит хлев,
и путь еще не ясен,
и гонят пастухи покорные стада,
и жертвенным быком у изголовья ясель
под самым потолком беснуется звезда.
«Зима как будто сыграна на лютне…»
* * *
Зима как будто сыграна на лютне
Читать дальше