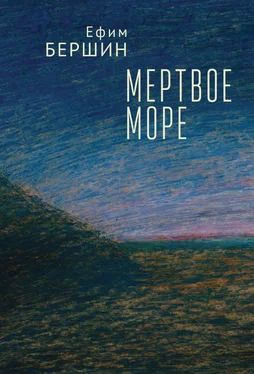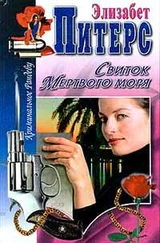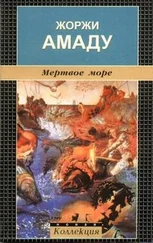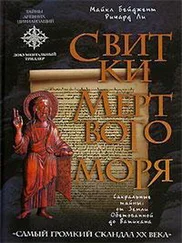И голодное море – только грим,
нанесенный на лик веков.
А на дне средиземном тоскует Рим
синкопическим лязгом оков.
А на дне средиземном пылает Храм,
изнывает Ирод, и род
человеческий заново к топорам
призывает беспечный рок.
И расплавленный ворон в дыму парит,
завершая тоскливый круг.
И из пены выходит не Кипр, а крик
Афродиты, лишенной рук.
И гремит барабанщик, не зная забот,
закипает кровь на губах.
Аритмия,
синкопы,
убитый Бог.
Иоганн Себастьян Бах.
«И снова я к тебе не успеваю…»
* * *
И снова я к тебе не успеваю.
И мне уже, наверно, не успеть,
не выдохнуть, не встать и не посметь
сказать тебе, что я не успеваю.
Я знаю: за чертой готовят плаху!
Да будет казнь!
Да будет на заре!
Мир праху твоему! Свобода – праху,
свободному как кровь на топоре,
в театре, где история – раба,
безгласная служанка Мельпомены,
рожденная, как Ева из ребра,
из синтеза коварства и измены.
Как та Иерихонская труба,
невинная приспешница Навина,
история преступна и невинна,
невинна и преступна, как раба,
страшащаяся вечно не успеть
на вечный пир, на собственную смерть.
Вот так и я к тебе не успеваю.
И мне уже, наверно, не успеть,
не выдохнуть, не встать и не посметь
сказать тебе, что я не успеваю,
что по пятам за мною из огня,
поспешно за собой мосты сжигая,
бежит, бежит, за мной не успевая,
эпоха обреченная моя.
«Дальний пригород. Ночь холодна…»
* * *
Дальний пригород. Ночь холодна.
Чьи-то тени на белой стене.
Словно здесь не земля, а луна
на обратной ее стороне.
Наизнанку развернутый свет.
Наизнанку развернутый звук.
Это снег. Это новый завет.
Это снова куда-то зовут.
Это манна засыпала двор
и дома, и мою колыбель.
Лишь у мусорной свалки, как вор,
озирается старый кобель.
Это снег. Это новый завет.
Это неба разодранный кров.
Из-под белого снега на снег
проступает ленивая кровь.
По дороге, под топот и лай,
где столбы из асфальта растут,
к заповедной земле, за Синай,
молодые собаки идут
то на Запад, а то – на Восток,
в ерихонские трубы трубя.
Я залаял бы, если бы смог,
да боюсь обнаружить себя.
«Когда мы шли с тобой в Ерушалаим…»
* * *
Когда мы шли с тобой в Ерушалаим
по переулкам и дворам Москвы,
где нас собаки провожали лаем,
где мы скрывались от людской молвы
в каком-то затрапезном кинозале,
где синий сумрак был неодолим, —
мы прятались, чтоб люди не узнали,
что мы с тобой идем в Ерусалим.
И даже там, на переходе узком,
где таял под ногами снежный наст,
скрывали лица, чтобы не был узнан
никто из нас.
Мы крались подмосковными лесами
под небом, перевернутым вверх дном,
уже порой не понимая сами,
куда и идем и для чего идем.
И заблудились. И когда над бездной
явился город, белый, словно снег,
мы поняли, что город был небесным —
не тем, что нам привиделся во сне.
Горел рассвет. Как рог единорога,
белела башня в мареве огней.
И оставалось два шага до Бога.
И стало страшно. Но еще страшней
вернувшись, оказаться в том же зале,
где истины не видно из-за тел.
И стало ясно, что меня узнали.
Не те.
Не так.
И даже не затем.
«Безымянный ваятель камней и гор…»
* * *
Безымянный ваятель камней и гор,
и влюбленных бюстов, замерзших в сквере,
чья любовь прекрасна, как приговор
приговоренному к высшей мере,
если ты – создатель, то кто есмь аз
на земле, где давно уже места мало,
где фонарь, как единственный глаз, погас,
утонув в зеленой воде канала,
где апрельские воды из года в год
пожирают хищно и неустанно
прошлогодний снег, как дворовый кот
пожирает пролитую сметану.
Если ты – создатель, то аз есмь кто?
Словно скрипка, спрятанная в футляре,
я лишь звук, разгуливающий в пальто,
за бесценок купленном на базаре,
где в цене манекены, меха, труха
бытия, я давно осужден условно
как последний рецидивист стиха
и адепт религии правословной.
«Это цвет вытесняет цвет…»
* * *
Это цвет вытесняет цвет,
уменьшая короткий век его.
Это боль сочится, как Новый Завет
просачивался из Ветхого.
И как будто бандитской финкой – в бок —
я нанизан, как туша – на вертел.
Это во мне умирает Бог,
который в меня так верил.
Читать дальше