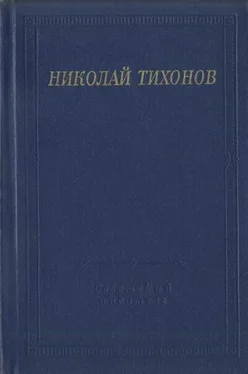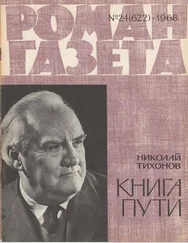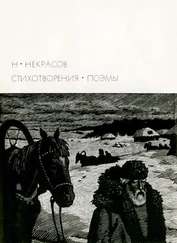Я ухожу, я кочую, как жук,
Севший на лист подорожника,
Но по дороге я захожу —
Я захожу к сапожнику.
Там, где по кожам летает нож,
Дратва скрипит слегка,
Сердце мое говорит: «Потревожь
Этого чудака!»
Пока он ворочает мой каблук,
Вопросов ловушку строю.
Сапожник смеется: «Товарищ-друг,
Сам я ходил в героях.
Только глаза, как шило, сберег,
Весь, как ни есть, в заплатах,
Сколько дорог — не вспомнишь дорог,
Прошитых ногами, что дратвой.
Я, брат, геройством по горло богат».
Он встал — живое сказанье,
Он встал — перемазанный ваксой Марат —
И гордо рубцы показал мне!
1925
Событья зовут его голосом властным:
Трудись на всеобщее благо!
И вот человек переполнен огнем,
Блокноты, что латы, трепещут на нем —
И здесь начинается сага.
Темнокостюмен, как редут,
Сосредоточен, как скелет,
Идет: ему коня ведут,
Но он берет мотоциклет —
И здесь начинается сага.
Газеты, как сына, его берегут,
Семья его — все города,
В родне глазомер и отвага,
Он входит на праздник и в стены труда —
И здесь начинается сага.
Он — искра, и ветер, и рыцарь машин,
Столетья кочующий друг,
Свободы охотничья фляга.
Он падает где-нибудь в черной глуши —
Сыпняк или пуля, он падает вдруг —
И здесь начинается сага.
1928
95–107. ГОРОДСКОЙ АРХИПЕЛАГ
Работал дождь. Он стены сек,
Как сосны с пылу дровосек,
Сквозь меховую тишину,
Сквозь простоту уснувших рек
На город гнал весну.
Свисал и падал он точней,
Чем шаг под барабан,
Ворча ночною воркотней,
Светясь на стеклах, в желобах
Прохладных капель беготней.
Он вымыл крыши, как полы,
И в каждой свежесть занозил.
Тут огляделся — мир дремал,
Был город сделан мастерски:
Утесы впаяны в дома.
Пространства поворот
Блестел бескрайнею дугой.
Земля, как с Ноя, как с начала,
Лежала спящей мастерской,
Турбиной, вдвинутой в молчанье.
1923
Свет льется, плавится задаром
Повсюду, и, в себя придя,
Он мирным падает пожаром
На сеть косящую дождя.
Прохожий, как спокойный чан,
Что налакался пива вволю,
Плывет по улице, урча,
Инстинкта вверенный контролю.
Мечты рассол в кастрюлях сна!
Скользит с глубоким постоянством
Такого ж утра крутизна
Над всей землей доокеанской.
Но дождь немирный моросит,
Пока богатый тонко спит.
Но цепенеет серый двор.
Лоскутья лиц. Трубач играет.
Постыло лязгает затвор
И пулю в череп забивает.
Он может спать, богач, еще, —
Смерть валит сыновей трущоб.
Еще толпится казни дым
От Рущука до Трафальгара
И роет истина ходы
В слоях огня и перегара,—
Но льется утро просто так,
Покой идет из всех отдушин,
Пусть я мечтатель, я простак,
Но к битвам я неравнодушен.
1925
Воскресных прогулок цветная плотва
Исполнена лучшей отваги.
Как птицы, проходят, плывут острова:
Крестовский, Петровский, Елагин.
Когда отмелькают кульки и платки,
Останется тоненький парус,
Ныряющий в горле высокой реки,
Да небо — за ярусом ярус.
Залив обрастает кипучей травой,
У паруса — парусный нрав,
Он ветреной хочет своей головой
Рискнуть, мелководье прорвав.
Но там, где граниту велели упасть, —
У ржавой воды и травы,—
От скуки оскалив беззубую пасть,
Сидят каменистые львы.
Они рассуждают, глаза опустив,
На слове слепом гарцуя,
О том, что пора бы почистить залив,
Что белая ночь не к лицу им.
Но там, где ворох акаций пахучих,
В кумирне — от моста направо,
Сам Будда сидит позолоченной тучей
И нюхает жженые травы.
Пустынной Монголии желтый студент,
Покинув углы общежитья,
Идет через ночи белесый брезент
В покатое Будды жилище.
Он входит и смотрит на жирный живот,
На плеч колокольных уклоны,
И львом каменистым в нем сердце встает,
Как парус на травах зеленых.
Будда грозится всевластьем своим…
Сюда, в этот северо-западный сон,
Сквозь жгучие жатвы, по льдинам седым
Каким колдовством занесен?
Читать дальше