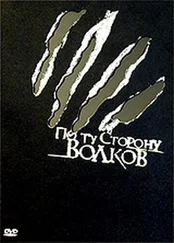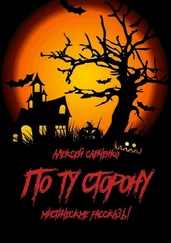Кровь – черная икра в посудине подъезда.
И хорошо, когда есть дача, вместо
Вот этой каменной махины, хорошо!
Жизнь ходит, есть здесь не за что цепляться,
Ну разве кроме двух названий итальянских,
Maestro del… и что-то там еще.
Когда твои уши гудят с недосыпу,
И воздух повсюду, как просо, просыпан,
Свеча средь потемок свернется в огарок…
Вглядимся, потомок,
в мой мир без помарок.
Вот готика комнат, тебе не знакомых,
И вряд ли ты сможешь сказать, что мы дома…
Ты можешь мой мир с перепугу разбавить
И камфору с теплой фуфайкой прибавить.
Там, в этой фуфайке – отсутствие солей.
А, кстати, немало нас в тюрьмах мусолят.
Глядишь, и сотрусь! На рассвете синица.
Держите, лишенцы! Вот вам она в лицах,
История самого крупного горя,
Какое случалось на суше и море!
Случалось на суше.
Развесили уши!
Каплун без подливки, что может быть хуже!
Грибы без заправки, что может быть гаже!
Я все, что назначено жизнью в пропаже:
Пропало, что было,
Что в шею дышало,
Что тайно, случайно мне в сердце стучало
И дальше… а дальше пропащее дело —
Я все разыщу! Чай, вьюнок – не дебелый!
Прошу подождать! Я ведь с детства был юркий.
Привык подбирать… Клички, рифмы, окурки.
Привык. Вот словечко. Свернулось как кровь.
А там осторожную опись готовь…
Что б все по порядку:
Такому-то пятку,
Тому, что пожиже того —
Ничего.
Названье… какое б… да хоть завещанье.
Ну что ж, завещанье…
На имя кого?
А дальше нахрапом, а дальше галопом —
О людях. О вас, господа остолопы!
О том, что вы мне второпях задолжали:
Немножко улыбки и множко печали.
И все же, что может сравниться с печалью…
О Боже, пишу… Боже правый, в ударе
Весь.
Здесь – от макушки
До сюда – до пятки!
Ко мне! Я пишу,
Я пишу вас, ребятки.
Но плачет девчонка, ах, плачет девчонка.
Душа к ней прижаться готова котенком,
К румянцу, который от горя стал слаще.
Нет, что-то случилось в четверг тот пропащий,
Когда я писать супротив колокольни
Усе лс я – и стало мне сладко и больно
С того, что никто за меня не рассказчик.
Тогда меня колокол вывел из чащи
Звучащей – и выдал конец! А теперь… край страницы,
За коим уже ничего не случится,
Где путь уже нежно блестит леденящий.
Прощайте! С рассказом расстанется мастер.
Останетесь вы, мой мудреный читатель!
За подлинность слова, бессменный ручатель!
За жизни ошибки последний предстатель,
С сего завещанья с лихвой получатель.
Владейте, читатель!
Что ж, Галлилео! Ты расчистил место.
Ты музыку сознанья превозмог.
Тебе чертовски было интересно.
Но выпит свет и вычерпан урок.
Вон выскочки, мохнатые от оспы,
От кислых запахов в консисторских углах,
Слезая с кресел, точно с козел, лезут в звезды,
И в них копаются, как в нечистотах детвора.
Засим и руки, не привыкшие к объятью,
Не доучившиеся ввысь взлетать,
Пора подальше спрятать и прижаться
Башкою к притолке, чтоб вслух не умолять.
Уже уходите? …Она всегда уходит,
Она спешит, балует второпях.
И он устал выклянчивать свой полдник,
Как вечный школьник в драке сплывшую тетрадь.
Она всегда уходит, но, выходит,
Что лучше жить, давая кругаля, —
Жить ожиданьем, что она приходит,
Едва уйдя. Жить так же вот, кружа.
Кружились куры в полдень в воскресенье.
И брадобрей кружил над жирной бородой,
И вся Италия кружилась в отдаленьи,
Которое душа зовет душой.
Один кулак по двери бил нещадно.
Другой, разжавшись в пятерню, его тащил
За локоть в консисторский зал прохладный.
Чего ты трехаешь? Ведь ты же отпустил
Ее, со всеми курами, дворами,
Собором кафедральным, фонарем
И макаронами, что, кстати, между нами
Мы до сих пор на вилку крутим, в честь нее…
Ее, ее с округлыми снегами
И с жаркими сугробами плеча.
С вот здесь внезапно закругленными ногами,
И с круглым небом в чаше круглого зрачка.
С водоворотом, хороводом, караваем,
С круговоротом, круговертью и еще
С ее рассеянными седоками,
По кругу мчащими – за ней и от нее.
От круглых дураков, от невозможных кружев,
Кружений вкруг да около, круглистых берегов
Всех круглых дней, недель, часов – всех кружек,
Всех круглых дат, округлых облаков.
Читать дальше