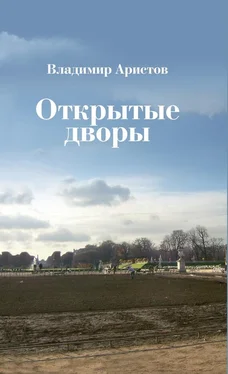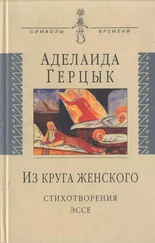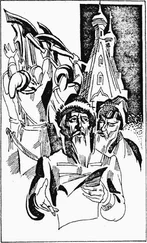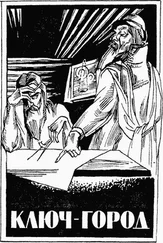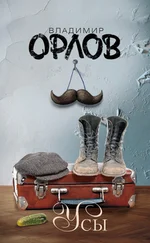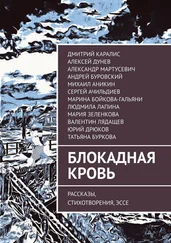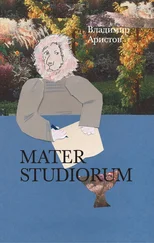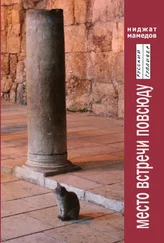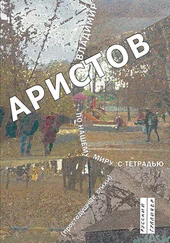Для передачи «внутреннего цвета» или «внутренней проведенной линии» в технике поэтического выражения есть лишь одно средство – слово. Упражнения в трансляции внешних видимых движений во внутренние и обратно, но с обретением обобщающего смысла, есть упражнения в неопределенности, имеющие непосредственное отношение к выражению и сохранению скрытого. Не менее важным, чем наблюдение, условием возможности соотнесения «контекст-текст» является концентрация внутренней энергии. И здесь важную роль играет культурологический аспект, как ни странно. То есть знание близких и отдаленных литературных и иных образцов дает некоторую ассоциативную уверенность в ненапрасности усилий концентрации и сосредоточенности для приближения к ощущению целостности мира. Можно назвать и дзен-буддистское понимание пустоты как полноты, и страстность самоотречения в экстатических периодах протопопа Аввакума, и возвышенную терминологию гностицизма, и суфийские озарения и т. д. Однако не должно создаваться подобие эклектического постмодернистского перечня. Важны лишь метки понятий и смыслов, практический путь к ощущению единого должен быть вполне самостоятельным со всеми возможными заблуждениями и ошибками.
Один из способов вовлечения неясного еще контекста в состояние возможности разрешения текстом – приведение всего своего существа в состояние «частичной целостности», мгновенной соединенности с миром. При этом весь рождающийся образ мира предстает в прекрасной замкнутости светящегося яйца или шара. И трепещущее плазматическое состояние способно в какой-то момент сгуститься и стать словесным клубком, из которого можно вытягивать незастывшие нити строк. Такое недолгое или протяженное во времени ощущение мира как сгустка духовного вещества с небывалыми свойствами может и не привести к словесному оформлению. Но поэтическая выразительность связана с умением аккумулировать и переживать такие чувства. Кроме того, есть внесловесный облик памяти.
Для создания ощущения сильной концентрации и сосредоточенности могут использоваться и привходящие обстоятельства. Например, в нашей социальности внешнее окружение, «общественное мнение» относилось настороженно или даже враждебно к проявлению непредсказанных чувств и мыслей (в частности, в поэзии). Поэтому внешнему воздействию надо было противопоставить такое встречное внутреннее давление самососредоточенности, которое позволило бы не только выжить творческому началу, но и продвигать «линию сопротивления» вовне. Правда, такие неестественные условия существования могли привести и к неизвестным «болезням» стиха.
Третье условие «предсловесной проявленности» – возможность соединения своего порыва с ощущениями других людей, «симпатия» к миру, порыв к бытию иного. Это проявленность мягкости, или душевности, связующая людей. Духовная сосредоточенность видится действующей по вертикали (от земли к небу и от неба к земле), а направленность душевности – по горизонтали (от человека к человеку). Подобная «мягкость» содержит в себе незащищенность, потому что дает хотя бы в возможности другому войти в твое душевное пространство. Но именно поэтому здесь возникает опасность благодушия или сентиментальности в проявлении такой тенденции в стихе.
Стихотворение в своем текстовом выражении для меня – раздвинутая цельность. В удавшемся произведении действует множество пар оппозиций, которые создают узлы и точки динамических равновесий. Поэтому суждения о гармоническом как о чем-то скучном и застывшем кажутся необоснованными. Но противоречия подобной множественности не являются изначальными, они находятся не в «онтологии» контекста, а есть следствие способа превращения контекста в текст конкретного стихотворения.
Для меня поэтическая форма – наиболее емкая, способная вмещать большие промежутки жизненных переживаний. Причем пространство возможностей в стихе возрастает (правда, здесь проявляется одна из тенденций, другая состоит в определенной демократизации и упрощении стиля). Но все же в поэзии могут быть ныне выражены непредсказуемые, «нелинейные» взаимоотношения, то есть, по сути, может быть дана экспрессивная запись множества простых процессов и судеб вещей.
Фактором, который явно переводит размытость контекста в очевидную определенность текста, не разрывая связи этой оппозиции, является внутренне драматургическое начало. Усилие скрытого драматизма не есть следствие некоего специального эмоционального стимулятора, не должно быть словесного атропина, расширяющего в ужасе зрачки. Внутренний драматизм в напряжении есть способ поддержания внутреннего пространства в готовности вновь возвращаться к полному миру с его невыразимостью, и, вместе с тем, фиксировать в постоянном динамизме память о прошедшем реальном взаимодействии характеров и сущностей. Возможна различная фиксация на письме скрытой драматической партитуры. Безусловно, приходится в какой-то мере мириться с сознаванием того, что слово – не только колоссальный в своей потенции сгусток смыслов, но и проекция, сокращение таинственного «континуального» действия самого чувства. Поэтому и графическая организация текста чрезвычайно значима. Что иногда может проявляться в форме записи строк или расположения строф. Промежутки, пробелы на бумаге между строфами могут играть важнейшую роль, при игнорировании таких «внесмысловых» пауз исчезает сама возможность для перехода в некое дополнительное эмоциональное измерение (графика строф и пробелов очень важна для меня, например, в поэме «Бессмертие повседневное»).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу