Какое счастье наравне молчать в бездонном разговоре!
У каждого евразийца
есть свой стозвукий колчан,
лохматая лошаденка
и мреющий путь аттилов.
И есть железная клеть —
перекати-кочан,
назначеная для совместья
западников и славянофилов.
У каждого евразийца,
дремавшего у Иглы,
вкруг острия которой
Творца обобщает беркут,
своё пониманье смерти.
Он клеть пускает с горы
и катится погремушка
едва ли до Кенигсберга.
Плохая дорога убьет лошадиные силы, и джип-иноземец подфарником ткнется в кювет.
– Сбежим до парома! Там старые стонут настилы, и в быструю воду вливается медленный свет.
Сбежим под угор в ликованье таежного лета, взойдем как трава у подножья замшелых камней. Ты вздрогнешь, припомнив сквозь розовый сон бересклета прошедшую жизнь в мельтешне воспаленных огней.
Вчерашнее эхо – угрюмство ревущей плотины, что в толще воды поглотила царевну-избу. Я в небо заброшу поеденный ржавью полтинник – «пусть дождь золотой искушает иную судьбу!»
Припомню: мечталось пожить у реки в глухомани, на лунных дорожках встречая Бродвей и Парнас, нездешнюю Русь, что туманна лежит за холмами – немыслимый берег, где люди забудут о нас.
Укроемся в мире, где быстрый ленок нерестится, где соболь постится, где дичи не рыщет ружье. Там раны залечит большая двуглавая птица, державную мякоть почувствует коготь её.
И дрогнут стропила над нами в разбуженном доме. Тогда и поймем, постигая высокий полет: мы души спасали и хлебом кормили с ладони те стороны света, где русская тайна живет.
В подземелье клацнувший засов
отворяет свет перед концом.
В нем творцы утробных голосов,
кто спиной ко мне, а кто – лицом.
«Страстотерпцы! Есть ли кто в живых?» —
я спросил у этих и у тех.
Мне навстречу, выжатый как жмых,
очевидец сумрачных утех.
Заклохтал: «Явился, гордый князь!
Ты един? Или один из двух?»
Я – един!.. И взвыла, усладясь,
бездна, пожирающая дух.
Ношу тяжелые унты, ношу тяжелый полушубок. И не уехать, не уйти от мутных лиц и мятых юбок. От злобы, зависти, обид. От сытых, благостных и теплых. Заря ладони окровит, в мой дом выламывая стекла.
И плоть, подвержена суду, меня покинет постепенно. И невесомый я пойду (так возвращаются из плена). Шагну к разверстому окну, смахну нечаянные слезы. Крылами тяжкими взмахну.
«Какие жгучие морозы!»
Миг – и нету никого…
Я гляжу на эти фото
и с небес, как с эшафота,
совершаю воровство.
Миг – и голая стерня.
Поминаю-вспоминаю.
Были-не были – не знаю,
потому что нет меня.
Миг – и рушатся мосты,
тают запахи и звуки.
И бегут вприпрыжку внуки
прямо в жерло пустоты.
Ты ли искал идеала,
чистого света-огня?
Молча поправь одеяло
и уходи от меня!
Малая толика яда.
Двое нас в круге луны.
Звездная сфера разъята,
пропасти озарены.
Каешься: думал-не думал,
вместе рубили сплеча.
Ветер порывисто дунул,
и – поперхнулась свеча.
Вместе творили погони,
туго вязали узлы.
Свет, прошивая ладони,
шепчется с горсткой золы.
Вместе отчаянно бредим,
смысла вострим остриё.
Вместе на родину едем,
я просыпаю её.
Ты же, недремлющий гений,
пеплом осыпанный зверь,
держишь в глуби сновидений
незатворённую дверь.
Мне остается в итоге
только слезу утереть.
Долго не стой на пороге
и не забудь умереть.
«Смутны иконы. Кони – в мыле…»
Смутны иконы. Кони – в мыле.
Но не пытайтесь наши мысли
изъять из сна и тишины.
Покуда алчущее эго
блуждает в поисках ночлега,
в ночлежках сумерки пьяны.
Как-то раз в московском кабаке, где клялись и изливали души, дед мой замер с рюмкою в руке и заметил вскользь о Колчаке, мол, ученый был морей и суши.
За окном сорок девятый год. И сосед, накушавшийся жирно, заблажил: «Чей камень в огород? Говоришь, ученый – не вражина? Полагаешь, зря, мол, в Ангару… – засверкал трофейными часами. – Ты мне, брат, пришелся по нутру, надо обменяться адресами»…
Читать дальше
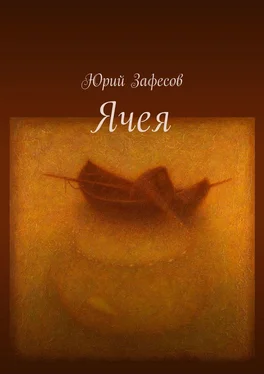




![Юрий Воищев - Детская библиотека. Том 45 [Юрий Тихонович Воищев Альберт Анатольевич Иванов]](/books/401002/yurij-voichev-detskaya-biblioteka-tom-45-yurij-tihon-thumb.webp)

