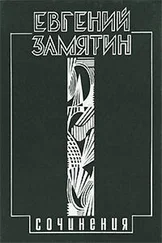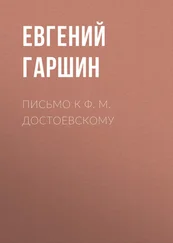— Как это страшно!..
— Поначалу страшно,
Но я разделась сразу, —
В этом доме
Красавицы порою исчезали,
А у меня была малютка-дочь.
Да и к тому же это был мужчина —
В любое время деньги и машина,
Какая широта,
Какой размах!
Я отдавалась, как страна — грузину,
Шампанское — рекой,
Зимой — корзины
Сирени белой,
Он меня любил!..
— Но он сажал,
Расстреливал,
Пытал!.
— А как бы ты с врагами поступал?
Не знаешь…
И поймёшь меня едва ли.
А он ходил в батистовом белье,
Мы веселились,
Пили «Цинандали»,
И шёл тогда
Пятидесятый год…
1978
«Сегодня проносятся бесы…»
Сегодня проносятся бесы
Над мокрою мостовой.
Мой город, без интереса
Расстанемся мы с тобой.
Метель окружает, свищет
С пронзительною тоской.
Незримое пепелище:
Козицкий… Страстной… Тверской…
Несбыточность кажется жалкой:
Так в десять, в пятнадцать так
Пытаются зажигалкой
Рассеять вселенский мрак.
Но тут появляются гости,
Бутылка на пьяном столе
С наклейкой, где — кожа да кости —
Ведьма летит на метле.
Но гости уже, как потери,
О коих не стоит жалеть.
Прощайте, друзья из артели,
Желающей голос иметь.
Прощайте, поэты-Корейки!..
Вперёд протянув пятерню,
Тяжёлые бедра еврейки
Устало к себе притяну…
Родная, о прошлом ни звука…
К чему канитель и возня,
Когда нас разводит разлука,
Тоску под лопатки вонзя!
Мне холодно в этом просторе,
Где пусто — зови, не зови —
И ложью попрали простое
Понятье добра и любви.
Мне холодно в шумной толкучке,
Где роком больна молодежь,
Где ты до горячки, до ручки
Вдоль сточной канавы дойдёшь.
Где нам, захлебнувшись минутой,
Не выжить в строке и в мазке.
О, бесы, что рыщут в продутой
И полубездомной Москве!..
1973
1
По улице Архипова пройду
В морозный полдень
Мимо синагоги
Сквозь шумную еврейскую толпу,
Сквозь разговоры об отъезде скором,
И на меня — прохожего —
Повеет
Чужою верой
И чужим презреньем.
И будет солнце в медленном дыму
Клониться над исхоженной Солянкой,
Над миром подворотен и квартир,
В которых пьют «Кавказ» и «Солнцедар»
По случаю зарплаты и субботы.
И будет воздух холодом звенеть,
И кучка эмигрантов в круговерти
Толкаться,
Выяснять
И целоваться,
И будет дворник,
С видом безучастным,
Долбить кайлом,
Лопатою скрести.
И ты мне будешь объяснять причину
Отъезда своего
И говорить
О праве человека на свободу
Души и слова,
Веры и судьбы.
И будем мы стоять на остановке,
Где гражданин в распахнутом пальто,
Такой типичный в этой обстановке,
Зашлёпает лиловыми губами,
Но только кислый пар,
И ни гу-гу.
И ты меня обнимешь на прощанье,
А я увижу рельсы,
По которым
Уедешь ты
Искать и тосковать.
Ох, это будет горькая дорога!..
И где-нибудь,
В каком-нибудь Нью-Йорке
Загнутся рельсы,
Как носы полозьев…
Свободы нет,
Но есть ещё любовь
Хотя бы к этим сумеркам московским,
Хотя бы к этой милой русской речи,
Хотя бы к этой Родине несчастной.
Да,
Есть любовь —
Последняя любовь.
1976
2
Обращаюсь к тебе, хоть и знаю — бессмысленно это,
Из осенней Москвы обращаться к тому, кто зарыт
На далёком кладбище далёкого Нового Света,
Где тебя Мандельштам не разбудит и не озарит.
Твои кости в земле в тыщах миль от московских околиц,
И прощай ностальгия — беда роковая твоя!
Но похожий лицом на грача или, скажем, на Мориц,
Хлопнул крышкою гроба, души своей не затворя.
И остался твой дух — скорбный вихрь иудейской пустыни,
Что летает по свету в худых небесах октября,
Что колотится в стёкла и в души стучится пустые,
Справедливости требуя, высокомерьем горя.
Но смолчали за дверью в уютной квартире Азефа,
Чтобы ветер впустить — не нашлось и в других чудака.
Лишь метнулась на лестницу кошка сиамская Трефа —
Ей почудился голос в пустых парусах чердака.
Это голос хозяина звал ошалевшую кошку
И ушёл по России, и сгинул за гранью границ,
И оставил раскрытым в ночи слуховое окошко,
Словно вырвалась стая каких-то неведомых птиц.
Читать дальше