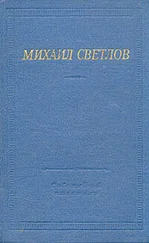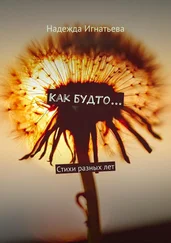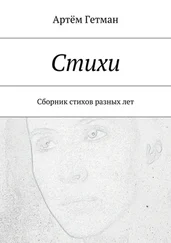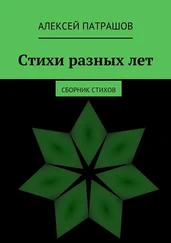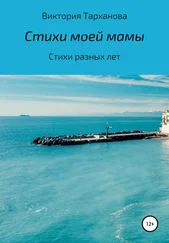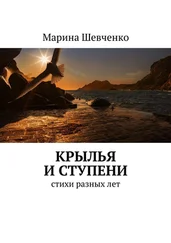Неуверенность – след моего бытия,
В каждой строчке и звуке спешит воплотиться.
«Пахнет воском метель», «вдохновенно цветёт медуница» —
Вот, пожалуй, и всё, в чём сегодня уверена я.
(33 стихотворения, с. 9–10.)
У некоторых поэтов неуверенности в их душах и умах совсем нет. Они уверены в том, что их стихи хороши. И потому иногда они выступают добровольными редакторами и цензорами других поэтов – даже если их об этом никто не просит. Они тем самым, как им кажется, борются за красоту поэзии, за честь поэтического творчества. Они часто дают односторонние оценки и стихам, и поэтическому творчеству поэтов, сами мало что понимая в них. Чтобы понимать поэзию, надо понимать душу её творца, ибо всё возникает из его ума, сердца, чувств, из жизненного опыта поэта. А для этого надо чувствовать культуру души человека вообще, но понимать, что души у всех разные. Если образно сравнить поэтов с птицами, то очевидно, что все птички поют по-разному. Одни чирикают примитивно как воробьи, другие что-то невнятное щебечут как скворцы, кукушки всю жизнь долдонят об одном и том же, поэты-канарейки имитируют пение соловья.
Птички ещё и питаются по-разному: кто-то падалью, кто-то насекомыми, кто-то семенами растений. Они ещё и летают по-разному: кто мощно и стремительно на большой высоте, кто бесшумно и низко над землёй, кто-то выделывая в небе замысловатые и красивые фигуры. Так и в поэзии присутствует разнообразие имён, стилей, способов создания стихов. Как писал в своё время великий поэт Шота Руставели, «кто два-три стишка скропает, тот, конечно не певец. Пусть себя он не считает покорителем сердец. Ведь иной, придумав глупость, свяжет рифмою конец и твердит как мул упрямый: «Вот искусства образец!» Эти мысли поэтического классика касаются не только написавших немного стихов людей, но и тех, кто пишет, не покладая рук и не давая покоя своему уму, по десять-пятнадцать поэтических книг за свою жизнь. Важно помнить не сколько пишет поэт, а как и зачем, важно качество его продукта творчества.
Поэзия Марины Глебовой разнообразна. В ней есть и подражание символистам, и устремления к классическим формам стихов, и образно-символические картины, созданные умом и сердцем, и меткие афористичные мысли. Неуверенность и сомнения в качестве написанного порождаются и сложностью и противоречивостью мироздания, и многообразием форм в языке.
Когда-то Пушкин в стихотворении «Осень (отрывок)» описал сомнамбулическое состояние своей души поздней осенью в своём деревенском Болдине. Греясь у огня в печи, после чтения и раздумий внезапно и вдруг он ощущал в себе смутное воображение, волнение и творческий порыв. И тогда рождались у него вдохновенные строки стихов. Например, такие:
Х
И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплён моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
XI
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут.
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.
(Пушкин А.С. Соч. в трёх томах. – Т. 1.-М.: Худож. лит., 1985.. – С. 522)
И если у классика в поэзии возможно рождение стихов в душе – как её пробуждение, как посещение желанных гостей в виде образов, символов, мыслей, которые в душе свободно общаются, ведут себя непринуждённо, то почему это же невозможно у поэта незнаменитого? И как писал в своё время шотландский поэт Роберт Бёрнс, «знатная леди и Джуди О'Греди пред Богом равны». Марина Глебова свои сомнения и противоречивость своего поэтического поиска прекрасно описала в стихотворении «Каскадом слов – печатью и печалью…» В нём дана аналитика погружения поэта в своё сознание, открытия в нём скрытых сил. Такой процесс и означает доведение поэтического напряжения, или «поэтического зуда», до его результата – сотворения стихов. Он подобен гулу в недрах вулкана, который в конце концов разрешается извержением слов и мыслей в стихах.
Каскадом слов – печатью и печалью —
То очарована, то загнана в тупик.
Давным-давно: в преддверии, в начале
Невнятность мой царапнула язык.
Слова стояли жалкою толпой,
Как нищие у царственного гроба,
И причитали, причиняя боль,
И требовали милости и крова.
Читать дальше