«Еще шуршат, звенят и шепчут капли…»
Еще шуршат, звенят и шепчут капли,
с листвы катясь в пахучую траву.
И каждый звук в молчанье сада вкраплен,
как зерна звезд в ночную синеву.
Перед окном черемух горьких чащи,
как будто вниз упали облака.
На этот мир цветущий и звенящий
я не могу смотреть издалека.
Мне мало звезд – десятков, сотен, тысяч.
Моя тоска тревожна и остра.
Я так хочу хотя бы искру высечь
для твоего неяркого костра.
Далекие лучистые кристаллы.
Холодные небесные огни.
Мне мало звезд, мне лучших песен мало,
когда не мною созданы они.
«Насыпает камешки в ведерки…»
Насыпает камешки в ведерки,
носит от скамейки до ворот…
Я стою на солнечном пригорке
в первый раз в пилотке, в гимнастерке…
Девочка меня не узнает.
Я сама себя бы не узнала
три недолгих месяца назад…
Вдруг она вгляделась, подбежала,
засмеялась: «Мама, ты солдат?»
Жестяные пыльные ведерки
раскидала посреди двора…
Для нее пока еще игра –
новый двор и мама в гимнастерке.
«Уходит день, в углах синее тени…»
Уходит день, в углах синее тени.
Бледнеют туч румяные края.
Ко мне, как медвежонок, на колени
карабкается девочка моя.
Беру ее, касаюсь шейки тонкой,
откидываю волосы со лба.
Она смеется беззаботно, звонко,
она со мной, храни ее судьба!
В такое время нелегко на свете,
и много в жизни сожжено дотла.
Я никогда не думала, что дети
приносят столько мира и тепла.
«В оцепененье стоя у порога…»
В оцепененье стоя у порога,
я слушаю с бессмысленной тоской,
как завывает первая тревога
над черною, затихшею Москвой.
Глухой удар,
бледнеющие лица,
колючий звон разбитого стекла,
но детский сон сомкнул твои ресницы.
Как хорошо, что ты еще мала…
Десятый день мы тащимся в теплушке,
в степи висит малиновая мгла,
в твоих руках огрызок старой сушки.
Как хорошо, что ты еще мала…
Четвертый год отец твой не был дома,
опять зима идет, белым-бела,
а ты смеешься снегу молодому.
Как хорошо, что ты еще мала…
И вот – весна.
И вот – начало мая.
И вот – конец!
Я обнимаю дочь.
Взгляни в окошко,
девочка родная!
Какая ночь!
Смотри, какая ночь!
Текут лучи, как будто в небе где-то
победная дорога пролегла.
Тебе ж видны одни потоки света…
Как жалко мне, что ты еще мала!
У сутулых камней качало
незнакомый глубинный груз:
рыжих водорослей мочало,
голубое желе медуз.
А на смуглой ворчащей гальке,
в яркой пене, бегущей вниз,
оставались стекляшки, гайки
и десятки патронных гильз.
И ребенок в белой панамке,
торопясь, хватал из воды
то ли камушки, то ль останки
похороненной здесь беды.
Года прошли,
а помню, как теперь,
фанерой заколоченную дверь,
написанную мелом цифру «шесть»,
светильника замасленную жесть,
колышет пламя снежная струя,
солдат в бреду…
И возле койки – я.
И рядом смерть.
Мне трудно вспоминать,
но не могу не вспоминать о нем…
В Москве, на Бронной, у солдата – мать…
Я знаю их шестиэтажный дом,
московский дом…
На кухне примуса,
похожий на ущелье коридор,
горластый репродуктор,
вечный спор
на лестнице… ребячьи голоса…
Вбегал он, раскрасневшийся, в снегу,
пальто расстегивая на бегу,
бросал на стол с размаху связку книг –
вернувшийся из школы ученик.
Вот он лежит: не мальчик, а солдат,
какие тени темные у скул,
как будто умер он, а не уснул,
московский школьник… раненый солдат.
Он жить не будет.
Так сказал хирург.
Но нам нельзя не верить в чудеса,
и я отогреваю пальцы рук…
Минута… десять… двадцать… полчаса…
Снимаю одеяло, – как легка
исколотая шприцами рука.
За эту ночь уже который раз
я жизнь держу на острие иглы.
Колючий иней выбелил углы,
часы внизу отбили пятый час…
О как мне ненавистен с той поры
холодноватый запах камфары!
Со впалых щек сбегает синева,
он говорит невнятные слова,
срывает марлю в спекшейся крови…
Вот так. Еще. Не уступай! Живи!
…Он умер к утру, твой хороший сын,
твоя надежда и твоя любовь…
Зазолотилась под лучом косым
суровая мальчишеская бровь,
и я таким увидела его,
каким он был на Киевском, когда
в последний раз,
печальна и горда,
ты обняла ребенка своего.
…
В осеннем сквере палевый песок
и ржавый лист на тишине воды…
Все те же Патриаршие пруды,
шестиэтажный дом наискосок,
и снова дети роются в песке…
И, может быть, мы рядом на скамью
с тобой садимся.
Я не узнаю
ни добрых глаз, ни жилки на виске.
Да и тебе, конечно, невдомек,
что это я заплакала над ним,
над одиноким мальчиком твоим,
когда он уходил.
Что одинок
тогда он не был…
Что твоя тоска
мне больше,
чем кому-нибудь, близка…
Читать дальше

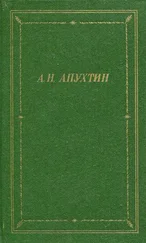
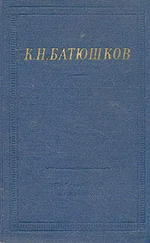
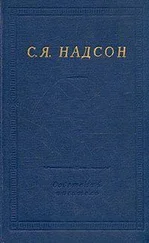




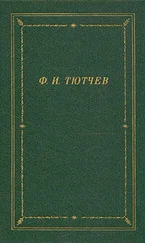
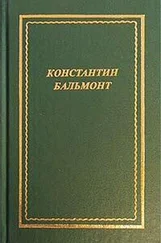
![Марина Цветаева - Полное собрание стихотворений [Компиляция, сетевое издание]](/books/426246/marina-cvetaeva-polnoe-sobranie-stihotvorenij-kom-thumb.webp)
![Сергей Есенин - Полное собрание стихотворений [Компиляция, сетевое издание]](/books/426249/sergej-esenin-polnoe-sobranie-stihotvorenij-kompi-thumb.webp)
