1 ...8 9 10 12 13 14 ...23
Трещат и рвутся спутанные корни.
И вот, не двигаясь и не дыша,
лежит в ладонях, голубя покорней,
тобою обнаженная душа.
Тебе дозволена любая прихоть.
Но быть душе забавою не след.
И раз ты взял ее, так посмотри хоть
в ее глаза, в ее тепло и свет.
Я зёрна сыпала чижу
и воду в блюдце наливала.
Мне было… Сколько – не скажу, –
я до окна не доставала.
Я подставляла, помню, стул,
чижу просовывала ветку,
а чтобы вечером уснул,
платком завешивала клетку.
Суббота. Чистые полы.
Басы далеких колоколен.
И стекла празднично светлы.
А чиж молчит, угрюм и болен.
Закат ползет по скатам крыш;
звеня о стекла бьется муха…
В моих ладонях мертвый чиж,
не птица, нет, – комочек пуха.
И не доступная уму
тоска, сжимающая горло…
Сама не знаю почему,
но время этого не стерло.
Я помню: приоткрыла дверь,
и луч дрожит на этой двери…
Мне только, может быть, теперь
понятной стала та потеря.
Нынче улетели журавли
на заре промозглой и туманной.
Долго-долго затихал вдали
разговор печальный и гортанный.
С коренастых вымокших берез
тусклая стекала позолота;
горизонт был ровен и белес,
словно с неба краски вытер кто-то.
Тихий дождь сочился без конца
из пространства этого пустого…
Мне припомнился рассказ отца
о лесах и топях Августова.
Ничего не слышно о тебе.
Может быть, письмо в пути пропало,
может быть… Но думать о беде –
я на это не имею права.
Нынче улетели журавли…
Очень горько провожать их было.
Снова осень. Три уже прошли…
Я теплее девочку укрыла.
До костей пронизывала дрожь,
в щели окон заползала сырость…
Ты придешь, конечно, ты придешь
в этот дом, где наш ребенок вырос.
И о том, что было на войне,
о своем житье-бытье солдата
ты расскажешь дочери, как мне
мой отец рассказывал когда-то.
Чахлый лес, сквозной, багряно-рыжий,
заткан солнцем вдоль и поперек.
Как сейчас я этот полдень вижу,
красный от брусники бугорок.
Корчится атласная берёста
на почти невидимом костре.
Мне с тобою весело и просто,
как девчонке, школьнице, сестре.
Наверху негреющая просинь,
зябких листьев вековечный спор.
Мы придем на будущую осень
в эту рощу разложить костер.
А на осень бушевала буря.
Ты вернулся без меня, один.
Потерялся в непривычном гуле
лепет перепуганных осин.
И в шинели серой, с автоматом
у березовых атласных ног
ты прилег за круглый и примятый
красный от брусники бугорок.
И пошли, пошли пути-дороги
колесить на тысячи ладов.
И стоишь теперь ты на пороге
незнакомых прусских городов.
Верно, скоро выйдет срок разлуке.
И, придя в знакомые места,
отогреем мы сердца и руки
у родного русского костра.
Ночами такая стоит тишина,
стеклянная, хрупкая, ломкая.
Очерчена радужным кругом луна,
и поле дымится поземкою.
Ночами такое молчанье кругом,
что слово доносится всякое,
и скрипы калиток, и как за бугром
у проруби ведрами звякают.
Послушать, и кажется: где-то звучит
железная разноголосица.
А это все сердце стучит и стучит –
незрячее сердце колотится.
Тропинка ныряет в пыли голубой,
в глухом полыхании месяца.
Пойти по тропинке – и можно с тобой,
наверное, где-нибудь встретиться.
«Песня моя, куда ты ушла…»
Песня моя, куда ты ушла,
где мы расстались с тобой?
Сыпятся звезды, зреет шашла,
грозен осенний прибой…
Дымные космы по ветру клубя,
мчится вдоль берега он.
Как мне тревожно, песня моя,
радость не в радость мне без тебя,
сон без тебя не в сон.
Может быть, ты залетела туда,
где обнимается с небом вода?
Может, скитаешься в диких камнях?
Спишь, можжевельник шершавый обняв?
Может, ты видишь такое во сне,
что никогда не привидится мне!
Может, ты снова шагаешь в поход,
гибнешь в беззвездную, в ту
страшную полночь под Новый год
в Феодосийском порту?
Медленно тянется дней череда
пугающей пустоты…
Песня моя, а вдруг навсегда
меня покинула ты?
Рамы пускаются в пляс на ветру,
стекла бросает в дрожь…
Я не засну и дверь не запру –
а вдруг ты сегодня придешь?
Читать дальше

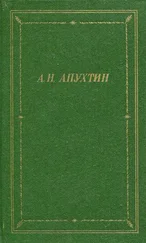
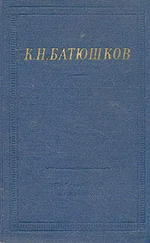
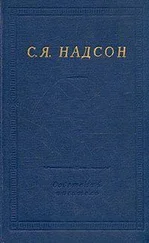




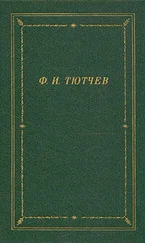
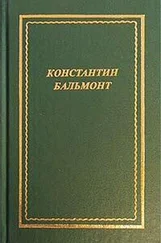
![Марина Цветаева - Полное собрание стихотворений [Компиляция, сетевое издание]](/books/426246/marina-cvetaeva-polnoe-sobranie-stihotvorenij-kom-thumb.webp)
![Сергей Есенин - Полное собрание стихотворений [Компиляция, сетевое издание]](/books/426249/sergej-esenin-polnoe-sobranie-stihotvorenij-kompi-thumb.webp)
