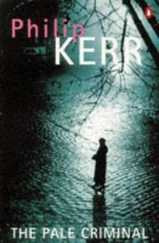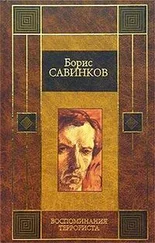Граф Д. Исильен
Бледный бог
С математическою точностью вошло
Иглою жало, обогнув немой хрусталик
Каскадом точных звезд; болезненной константой,
Белыми хлопьями в сетчатке замело;
Как будто снегом – россыпью зеркал,
Несметный сноп кристально-крохотных забрал,
Надвинутых на горизонта бледное чело.
Я видел пол да потолок едва – и человек, худой, со лба
Смахнувши пот, наверное, налил;
Услышан хруст стакана был, мещански-грязного об пол,
И силы, смелость, мерной буффонадой той, всё мертвенно
Куда-то утекло; заполошившись сразу
Меня оставить; но уж не моя зараза,
Что молчаливее ждала, притихнув под челом.
Она молчала, зная, – знал и я,
Я знал, что далее меня теперь ждало,
Но что это? Наверное, окно,
Открыл он; ибо задувает – то я услышал босыми ногами
А он, потоки зимние браня, готовясь оперировать меня,
Проторенной тропой вертаючись к столу,
Всё суетился, чтобы я не околел.
И улыбнувшись чем-то озорливо; не ротовою щелью,
Не губами, что не диво -
С такой смертельной дрязгою в конце,
Я их уже не чувствовал ни на своем лице,
Ни где-либо еще; да и лицо в придачу,
Не ощущал, почти уже переиначил всё
Художник, врачеватель тот; потертое, чужое полотно;
Подумалось – уже не всё ли мне теперь
В конце концов, пред господом, одно.
С математическою точностью вошло
Иглою жало, продырявив века свод
Оскалился багряно-красным небосвод,
И всё погасло. Дом мой, крыша, небо,
Что было снегом – стало вмиг золой,
Холодный ветер ноги более не жег,
Не грыз мне ступни языком своим нелепым,
От холода декабрьского снега белым и немым,
Не сотрясал и стены дома, что увы,
Покрылись для меня бороздами глухими,
Одной – червиво-черной, цвета сажи, седины.
Как будто у избы вдруг не без ангельского спросу,
Ни беса не спросив, не сотрясая воздух,
Под небо вперившись, трухлявые рога, возвысились,
Для устрашения иным.
И тут же прочь, в чужие дальние края меня маня,
Лишь только он (а я про ветер), убаюкивая в сны,
Когда, я слышал хруст протяжный, звон палёной
Из фляги что плеснул он – огненной воды,
Обагрил руки, глотку, и щипцы.
Поморщившись, икнув, и вздернув бровь,
Скомандовал – откачивайте кровь;
И завертелось, верно, затряслось –
Пурга метет, и в окна, пустословя, залетая,
Несет за вестью весть – и вот, шальная,
Притиснута, похоже, рамой, или чем похуже,
Скандал, что учинен был стужей,
Теперь уж, верно, былью умертвлен;
Что до меня, то я, превозмогая сон,
Имел себе за смелость оставаться средь живых.
И слышал я, что впредь иным не снилось,
Пусть не сойти мне с места, коль слетят,
Из уст моих услады капли, невзаправды яд,
Но там творилось страшное – увы,
Не всё постичь способны лучшие умы,
Хибара так тряслась, что словно гусь, ошпаренный в котле,
Коль мог я видеть – то и на моем, мертвецки бледненном, челе
Тотчас испарина бы взвилась словно див.
Те дьяволы, клянусь, и не кривлю душой, они
Переговаривались, блея, словно козы,
Не в силах вынести чудной метаморфозы,
Лишь только дрогнула со скальпелем рука;
Я погрузился мерно в вязкие шелка.
Всё оказалось ложью;
Всё, что я читал; что изучал я юношею прежде
Скомкалось в липкий сумрачный клубок, и между
Былью, сном и драпировкой ночи закатилось в щель.
Здесь только дождь;
Он капает вдали -
Глухими каплями раскраивая дни;
Одним бездумным скальпелем кроя и разрезая,
Здесь только дождь, и ничего -
Земля пустая; что там -
Нет здесь никакой земли.
Агония немая, больше ничего
Ни даже темноты, от этого всего странней,
Неистово страшней; и то,
Что принял я за крайность бытия –
Превозмогая пыл мой, ум, иль естество,
Ничто иное, как Ничто; иное
Часом не привидится во снах.
Всё оказалось ложью;
Всё, что толковали, в мороке разума седые мудрецы,
О чем им невозбранно пели – их
А им и их – отцы;
Здесь не было жаровен и котлов.
Признаю я и то, что вид их был бы мне куда добрей и мил
Чем этот первозданно-хрупкий мир,
До дрожи бледное, пустое полотно,
Холодное, карикатурное Ничто;
И я – карикатурный и пустой – пред ним.
Серебряною вспышкой грянул гром,
Разрезал скальпелем живую неба плоть,
При том, тот звук был осязаем,
Коль слух уже здесь был мне не в нужде –
Седая пустошь не таила зло.
Читать дальше