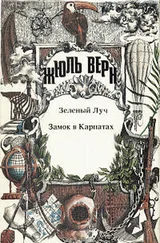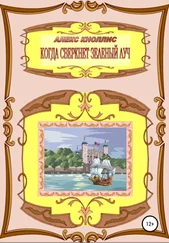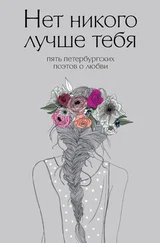Что думал сам ссыльный Чернышевский об этом месте, нам неизвестно, и неизвестно, возвращался ли туда хоть раз его дух. Но домик изнутри был уютным и гостеприимным, заполненным какой-то светлой аурой. Во дворике в щели между плитами пробивался ярко-зеленый мох, а кирпичная ограда была оплетена девичьим виноградом. Да и выставочные залы были похожи на обычные комнаты со старой мебелью и старыми предметами вроде граммофона, чернильного прибора, керосиновой лампы… К Чернышевскому все эти вещи отношения не имели, но я, надо сказать, и не испытывала к Николаю Гавриловичу особо трепетных чувств. Как-то я его не очень любила. Почему-то.
Вероятно, власти и не подозревали, когда загоняли городскую литстудию в музейный подвал, что это окажется так откровенно символично. В подвале я обнаружила весь местный литературный андеграунд, которому было глубоко начхать на «Каспийские зори».
Ах, как же не вспомнить людей, которые собирались там! Как не вспомнить Вовку Г., который распугивал случайную публику, желавшую читать про волжские рассветы и закаты. Пугал он их своим демоническим видом – был он высок, горбонос, бородат: «ликом черен и прекрасен», –
а также разнообразным поведением и стихами о мусоропроводе. Впрочем, рассветы и закаты в его стихах тоже имелись, но были они – ах, как же были они хороши, как неповторимы они были!
Разлился по стенам рассвет
перламутром,
И небо стекает по стеклам оконным,
И льется в бидоны молочное утро,
И зябнут невыспавшиеся мадонны… [1] Стихи В. Горжалцана.
Но, будучи от природы великим лицедеем, Вовка всегда ловил настроение публики и на студии читал только «кассовые» вещи, всё самое ранимое оставляя для узкого круга. Поэтому окололитературные личности считали его грубияном и циником, но ему на эти личности было наплевать, он был популярен и востребован в других кругах, пусть неофициальных, зато ярких и интересных. Дома у него на книжной полке стоял увесистый том – Владимир Г. «Неизданное». Внутри были чистые листы.
Понятно, что в областном Союзе писателей Вовку не жаловали, как не жаловали там еще одного уникума нашей компании – Сашу Щ. Был он большой, лохматый и печальный. Талант его, насквозь проникнутый великой вселенской скорбью и вечными сомнениями, тоже, разумеется, не мог прийтись ко двору. У Вовки – помойки и мусоропроводы, прикрывавшие, как щитом, всё остальное, у Сашки – снесенные кладбища, старые люди, больные дети.
Хоронили тетушку Рахиль.
Гроб был невесом, почти воздушен,
Разговор несущих – груб и скушен,
И черна кладбищенская пыль.
А потом, без права на жилье,
В комнате с отбитой штукатуркой
Поселился Гусев, старый урка, —
Не музей же делать из нее! [2] Стихи А. Щербы.
Как же всё это было не жизнеутверждающе! Казалось бы, и времена жизнеутверждающие проходили с роковой неизбежностью, но кому было до этого дело? Жизнеутверждающее начало необходимо любой власти, иначе что же это за власть, если вокруг нее всё так плохо: умирают люди, плачут дети, тоскуют одинокие женщины, пьют водку невостребованные поэты… Нет уж, товарищи, так мы, знаете, до чего докатимся? Критика, конечно, необходима, но позитивная: покритиковали – устранили. А как устранишь разлуку, болезнь, потерю близких, невстреченную любовь наконец? Как устранишь тоску, приходящую во время осеннего дождя, а тревогу куда девать, когда от ветра растерянно мечутся ветви деревьев, и даже когда ничего вокруг тебя не происходит, что делать с сумеречным миром, где всё – сомнения и тайна?
Так ли уж всё это было однозначно: Вовкин эпатаж, Сашкина мрачность? Я уже тогда начинала понимать, что всё это были не более чем маски несправедливо невостребованных большой литературой провинциальных поэтов. Но вместо того чтобы отмахнуться от подобной же очевидной бесперспективности, я без колебания принимала эти странные невеселые миры, такие близкие моему собственному миру. Я уже не была в этом городе одинокой.
В третьем классе я получила в подарок от деда книжку, написанную известным в городе писателем-краеведом.
В те времена я относилась с большим пиететом к настоящим писателям, к которым причисляла всех, издающих настоящие книжки. Впрочем, дед мой, слава Богу, в литературе разбирался и что попало не покупал. Поэтому, когда на студии я познакомилась с дочерью этого писателя, пиетет никуда не делся, даже наоборот. Я с робостью представила себе этакую «профессорскую» квартиру, где все ходят на цыпочках, разговаривают как по-писаному и пользуются за обедом столовыми приборами. Я не умела пользоваться столовыми приборами, и это меня немного смущало и тревожило.
Читать дальше