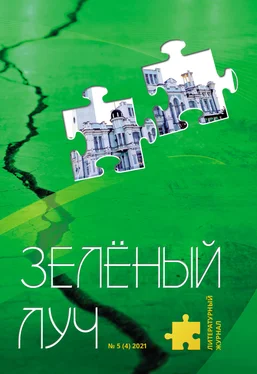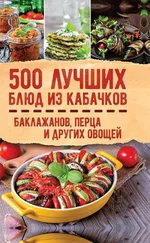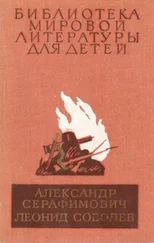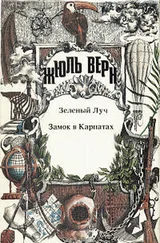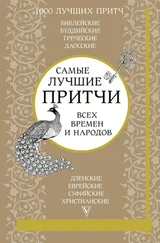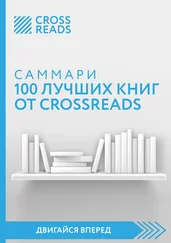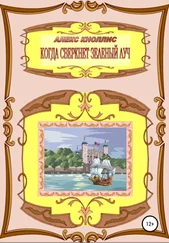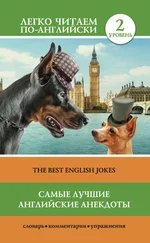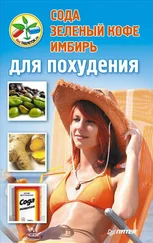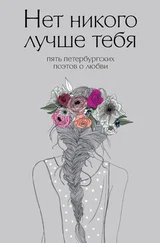Даже те закомплексованные личности, что пишут в стол и никому не показывают своих экзерсисов, не могут втайне не мечтать о понимающем читателе. Любая писанина по определению требует, чтобы ее прочли, ведь раз уж ты записал на бумагу что-то, значит, хочешь это сохранить – а зачем? Чтобы самому любоваться? Еще слава Богу, если кого-то останавливает здравая самооценка, но и она не спасает от дурацких мечтаний.
Я в этом смысле оказалась ничем не лучше и не хуже прочих, по той простой причине, что, как сказала Анна Андреевна Ахматова, «нестерпимо больно душе любовное молчанье». И понесла я свои стихи «на смех и поруганье» в литературную студию.
В начале восьмидесятых культуру со всеми ее ветвями у нас не пускали на самотек, да и куда бы ей было течь в небольшом провинциальном городе? Да, преимущество маленьких городов в отсутствии конкуренции, недостаток – в отсутствии альтернативы. Впрочем, конкуренция при отсутствии альтернативы все-таки имеет место быть, а в те годы по советским провинциям всё еще шествовала литература социалистически реалистическая, оптимистическая и политически соответствующая. Чему уж там было соответствовать – социализм начинал тихонько потрескивать по швам, но на периферии старая гвардия стояла насмерть. Да и кому было бы вводить новые культурные ценности в местечковый оборот? Все как сидели в своих кабинетах при Брежневе, так и остались при Андропове, Черненко и Горбачеве. С чего бы вдруг они стали менять свои литературные пристрастия, если таковые у них вообще были? Стало быть, всё то же: лотосы, арбузы, осетры и далее по тексту…
Что касается моих сложных отношений с современным миром, малопонятных и всегда печальных размышлений, то они относились к тому самому «упадничеству», которое в нашем городе не любили и не печатали.
Где-то в далекой Москве и еще более далеком Ленинграде, который тогда еще не догадывался, что вскоре снова станет Санкт-Петербургом, издавались толстые литературные журналы, воскресали с благословения перестройки засекреченные ранее имена, что-то там бурлило: метаметафористы, концептуалисты, неофутуристы, мета-реалисты, куртуазные маньеристы и всякие митьки. Всё это тоже казалось мне по большей части либо эпатажем, либо вовремя подхваченными и олитературенными веяниями общественной жизни. Вечностью от большинства произведений и авторов и не пахло, но это было движение, дыхание, пульс – пусть неровный, нездоровый, но живой! «Ах, Москва, Москва, ты мой мираж! Может быть, и нет тебя вообще?» – написала я, отчаявшись, а отчаяться было от чего.
«Каспийские зори», «На Волге широкой», «Наши земляки» – так назывались уважающие себя поэтические издания. Других не было и, подозреваю, не предвиделось. Мне точно нечего было там ловить. Я шла на литературную студию с тяжелым сердцем. И все-таки шла, поскольку больше идти было некуда.
Студия называлась с местным колоритом – «Моряна». Я знала, что это такой ветер, но как отличить его от других местных ветров, представляла довольно смутно. Что было такого в этом ветре, что нес он с собой в этот неприбранный город, что должен был пробуждать в поэтически закруженных головах? Впрочем, благозвучие слова как-то оправдывало выбор, намекало на положительность и полезность этого ветра, в отличие, например, от его собрата, называемого старожилами «чамра». Даже не будь чамра ежегодным испытанием нашего терпенья, студию с таким названием представить трудно, хотя впоследствии мне и приходило в голову, что ассоциация с несущимся песком и летящим мусором вполне подходила к какой-то части нашей местной литературы.
Когда-то, во времена оные, студия носила название – «Стрежень». Из-за острова, как говорится, на стрежень… Почему студию переименовали, я не знала. Может, потому что многие путали «стрежень» со «стержнем»? Было и еще одно название – «Глагол», но тут уж я считала, что с тем же успехом можно было называться «Существительным» или «Деепричастием», – учитывая, что с глагольными рифмами мы боролись.
Все эти раскладки пришли ко мне уже потом. А изначально название студии заставило меня покривиться.
Ветер тут был ни при чем, просто это был такой же местечковый штамп, как и «Каспийские зори».
Прежде мне никогда не приходилось бывать в Литературном музее Н. Г. Чернышевского. Домик был мал и мил, с деревянными застекленными верандами в два этажа со стороны маленького замощенного дворика. На первый этаж надо было спускаться, а на второй подниматься, и это мне почему-то особенно понравилось. На улицу первый этаж выходил полуподвальными помещениями, и именно там находилась студийная штаб-квартира.
Читать дальше