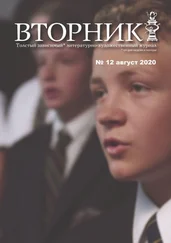Сайера встала из-за стола, вытянулась, положив кончики пальцев на край стола, и впервые спокойно и почти без эмоций, словно зачитывая приговор, произнесла:
– Я не знаю, мама, что с тобой стало. Ты всегда была в моём представлении понимающим человеком, учившим меня находить в мире интересное, быть сильной и не бояться нового. Такой мамой я восхищалась, старалась стать такой же, и, по-моему, именно к этому образу я приближаюсь. Что случилось, что ты вдруг откатилась от собственных идеалов? Откуда взялся этот самообман, в чью бочку ты пытаешься и меня затолкать? Ты привозила мне открытки с изображениями картин из музеев стольких стран, покупала мне краски и холсты и настаивала, чтобы я читала книги, чтобы, как ты говорила, «понять, насколько огромен и многообразен мир». Результат перед тобой: я заражена любознательностью, поняла, как много можно сделать, и вижу, что окружающая нас с тобой реальность – мала и незначительна и, как ни крути, неубедительна , чтобы делать её ориентиром собственной жизни. Я пытаюсь до тебя достучаться, а ты мне в ответ всё про ту же архаику – замуж, свекровь, дети. Мы с тобой говорим и мыслим на разных языках. А то, что люди меня не примут, меня это не пугает. Я буду создавать свой мир. И потом, я всё равно отсюда уеду туда, где воздух не так нагнетён и дышится легче.
* * *
«Несмотря на занятость, Дильноза несколько раз в неделю заезжала к родителям, чтобы с ними посидеть, увидеть их лица и навестить бабушку. Дильноза обычно заскакивала к обеду. Вечером не было смысла заезжать. Будоражила бы на ночь родителей и давно спящую бабулю Надиру. Поэтому самый раз заглядывать к ним днём, когда мать суетится с обедом, отец, сидя на курпаче за низким столом на летней кухне, пролистывает газеты в предвкушении обеда, а бабуля Надира сидит в тени черешни на удобном для неё пластмассовом стуле с мягкой и тёплой подстилкой в нескольких метрах от сына между кухней и центром двора.
В летние дни жара стоит нестерпимая, но во дворе родительского дома, расположенного на окраине города, всегда на пару градусов прохладней, чем в шумном центре города, полного людей и машин. К обеду солнце уже на противоположной стороне от летней кухни и обедать и общаться там вполне терпимо. А если повезёт, то можно уловить еле ощутимый ветерок. Кстати, именно из-за возможного наплыва, казалось бы, невинного ветерка на крохотные плечи бабули Надиры, сидящей в одном лишь хлопковом бело-голубом платьице, накинуты платок или сыновья рубашка, чтобы, не дай бог, не продуло. Поздоровавшись и по очереди обнявшись и поцеловавшись со всеми, Дильноза обычно возвращалась к бабушке и общалась с ней, пока готовился обед и накрывался стол.
Одни утверждают, что время так меняет человека, что он превращается в кого-то другого, кардинально отличающегося от того, кем он родился. Другие, наоборот, заявляют, что человек всегда один и тот же: каким, мол, родился, таким и уйдёт. Наблюдая за бабулей, Дильноза никак не могла определиться, что применимо к ней. С одной стороны, несомненно, что след простыл от её когда-то гордой и даже несколько надменно-властной осанки, от силы, которую излучала лёгкая полнота, бывшая лет двадцать назад очень ей к лицу, и от холёности дорогих брошек на бархатных платьях. Восьмидесятипятилетняя старушка стала крохотной. Часть тела просто куда-то испарилась, образовав внутри пробелы, разве что местами оставив шишечки-жировички и беззащитно обвисшие слои морщинистой кожи. А с другой стороны, её взгляд совсем не изменялся и так же не сомневался в её важной роли в мире. В нём отражались память о триумфах и падениях, мысли и беспокойства, мерцания истины и бессмертия.
Эту жизнь не способны остановить ни моторчик вместо сердца, ни прекращающиеся шумы-голоса в голове, которые бабуля приняла как неизбежное, научившись с этим жить. «Ты знаешь, там два голоса, – объясняла она Дильнозе. – Один женский, который я очень не люблю. Он скрипучий такой, назойливый и часто расходится сильно, истерить начинает. Это ужасно, ничто в жизни меня так не изматывало, как эта истеричка в голове. Даже когда Закир меня бросил, и я, измученная, истощённая, униженная, работала на износ, утром преподавала в институте, а вечером подрабатывала уборщицей в учреждении на другом конце города – у меня откуда-то потом брались силы. Наверное, в меня силу и цель вселяли твой отец, подросток тогда, и малышка-дочь, тётка твоя. А истеричка вроде просто в голове сидит и не видно её совсем. Но из-за этого ухватиться не за что, чтобы заткнуть её. Хоть голову себе отрывай! Другой же, мужской, голос очень, очень даже ничего. Нравится он мне, певучий такой, сердечный. Знаешь, на чей похож? На Муслима Магомаева. Как он мне нравился, заслушивалась им! Мой, конечно, без слов совсем, звук просто, но, честно говоря, я не хочу, чтобы он меня покидал… Вот так и живу, внучка, с двумя чередующимися голосами в голове, от одного – в отчаянии, а от другого – в блаженстве. По сути, мало что поменялось, ведь жизнь – не более чем наше метание между эти двумя полюсами».
Читать дальше