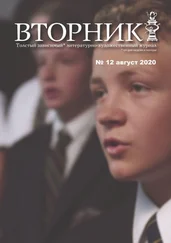– О Аллах, это невозможно, невозможно…
Несколько секунд спустя тишина разорвалась от исступлённого протяжного крика:
– Малокат, вернись! Малока-а-ат!!
Когда её крик, разбудивший многих в округе и блеснувший металлическим блеском бездушных звёзд, утонул в глухой темноте неба, Карима прошептала:
– Я проклинаю тебя, Малокат. Чтобы твои дети мира не знали и ты страдала так же, как и мне отныне суждено».
* * *
Зуля не заметила, как пролетел год с того дня, когда она начала писать этот роман. Человека так мало, а он вынужден жить так, будто он – многорукое божество, каждая рука которого тянется к чему-то своему, отличному от сфер, в которые погружены другие руки. Дела как-то делаются, но голова охвачена хаосом бегущих в разные стороны и требующих внимания вопящих мыслей, ничем не отличающихся от капризных малышей, безразличных к желаниям матери. Тем не менее самодисциплина помогла Зуле уместить написание романа в рамки жизни, очерченные напряжённым рабочим графиком и постоянным беспокойством о дочери. Роман вжился в неё, а она в него. Он захватывал внимание Зули, снижая внутреннее напряжение, и освобождал её от себя. Зуля неизбежно погружалась в мысли и чувства, радости и страдания каждого из своих героев.
Зуля забывала о себе в те ранние утра, поздние ночи или короткие отрезки выходных, когда ей удавалось работать над романом. Но она всё же улавливала присутствие себя на его страницах. Эхо голосов героев расходилось и растворялось в тишине сердца Зули, затаившегося благодаря их историям. Их слёзы текли по щекам Зули, а их мольбы и проклятия черпали ноты из всего лучшего и худшего, что было в ней, о существовании которых она раньше не подозревала. Оглушительное пульсирование таинств жизни и истории, подчинивших себе ритм писательского сердца, заглушало звуки её собственных переживаний, отчего она казалась себе песчинкой в бесконечности вселенной.
Одновременно с этими ощущениями роман представлялся Зуле собранием сказок, которые ночью рассказывают друг другу странники, распивающие чай возле костра в пустыне. Слышен вроде только голос рассказчика, но при этом каждый из странников знает, что сила сказки кроется не в её сути, а в способности сказки скользить, как смычок по скрипичным струнам, по дуновениям ветра, гоняющего сухой и охладевший песок, по тишине неба, пленённого звёздными сплетениями, и по невидимым паутинам бескрайности на песчаных волнах. Осознание того, что она, Зуля, и есть те струны – тот самый ветер, тишина и бескрайность, по которым скользят жизни её героев, – придало ей силы, возвышавшие её над собой, и приблизило Зулю к голосу истины, творцу неба, ветров и пустынь.
Не имея ни времени на обдумывание, ни опыта написания романов, Зуля просто писала, распахнув ставни сердца и воображения и позволив ветру творчества, сопровождаемому музыкой жизни героев романа, гнать их многоголосые и разноцветные истории, так же как ветер подгоняет упавшие с деревьев сухие листья в осеннем парке. Месяцами этот ветер кружил над жизнью сбежавших Эркина и Малокат и перелистывал страницы, где рассказывалось о силе характера Эркина, поднявшегося на верхушку общественной лестницы и об их с Малокат любви, подарившей жизнь четырём дочерям. Зуля писала о каждой из девочек, борясь с писательской неопытностью и не зная, как отдать должное каждой из них, раскрыв подробности их жизней, но при этом не утеряв единого течения романа. Зуля пошла незамысловатой дорогой, посвятив каждой из дочерей отдельную главу.
Надире, невысокой, смуглой, крепкокостной, с волевым лицом с царственным выражением и крупным округлённым носом, было уделено много внимания. Будучи старшей, она в сложные до- и послевоенные времена выполняла роль второй матери, своего рода третьего родителя. Её чувство ответственности было таким же обострённым, как и слепая вера в собственную правоту, и она требовала от всех, и уж тем более от сестрёнок, беспрекословного послушания. Сестрёнкам же не терпелось подрасти и встать на ноги, чтобы вылететь из трёхкрылого родительского дома.
Вторая дочь Лютфия, светлокожая, весёлая девушка с волнистыми каштановыми волосами до плеч, работавшая медсестрой в военном госпитале, влюбилась в посещавшего Ташкент русского офицера. Узнав об этом, родители и Надира устроили ей взбучку, приказав «выбросить дурь из головы». Эркин объявил, что «сейчас же займётся поиском жениха для неё, а то позора не избежать!». Через два дня Лютфия бесследно исчезла, не вернувшись домой с ночной смены. Эркин поднял на ноги все службы, но безуспешно. Только через неделю кто-то бросил им записку в почтовый ящик, написанную рукой Лютфии: «Простите меня, но по-другому нельзя. Мы полюбили друг друга, и я уезжаю вместе с ним. Если останусь, вы меня отдадите замуж, и тогда я умру. Не ищите меня. К тому времени, когда будете это читать, я уже буду далеко. Попросила знакомую бросить эту записку в почтовый ящик через неделю после моего отъезда. Прощайте».
Читать дальше