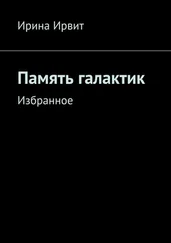Что же стынут ресницы —
Еще не сегодня прощаться,
И по здешним дорогам еще не один перегон —
Но уже нам отмерено впрок
Эмигрантское счастье —
Привокзальный найденыш,
Подброшенный в общий вагон.
Мы уносим проклятье
За то, что руки не лобзали.
Эта злая земля никогда к нам не станет добрей.
Все равно мы вернемся —
Но только с иными глазами —
Во смертельную снежность
Крылатых ее декабрей.
И тогда
Да зачтется ей боль моего поколенья,
И гордыня скитаний,
И скорбный сиротский пятак —
Материнским ее добродетелям во искупленье —
Да зачтется сполна.
А грехи ей простятся и так.
Не берись совладать,
Если мальчик посмотрит мужчиной —
Засчитай как потерю, примерная родина-мать!
Как ты быстро отвыкла крестить уходящего сына,
Как жестоко взамен научилась его проклинать!
Чем ты солишь свой хлеб —
Чтоб вовек не тянуло к чужому,
Как пускаешь по следу своих деловитых собак,
Про суму, про тюрьму, про кошмар сумасшедшего
дома —
Не трудись повторять.
Мы навек заучили и так.
Кто был слишком крылат,
Кто с рождения был неугоден —
Не берись совладать, покупая, казня и грозя —
Нас уже не достать.
Мы уходим, уходим, уходим…
Говорят, будто выстрела в спину услышать нельзя.
«Отчего снега голубые?..»
Отчего снега голубые?
Наша кровь на тебе, Россия!
Белой ризой — на сброд и сор.
Нашей честью — на твой позор
Опадаем — светлейший прах.
Что ж, тепло ль тебе в матерях?
1981
«Ненавистная моя родина!..»
Ненавистная моя родина!
Нет постыдней твоих ночей.
Как тебе везло На юродивых,
На холопов и палачей!
Как плодила ты верноподданных,
Как усердна была, губя
Тех — некупленных
и непроданных,
Осужденных любить тебя!
Нет вины на твоих испуганных —
Что ж молчат твои соловьи?
Отчего на крестах поруганных
Застывают
слезы твои?
Как мне снятся твои распятые!
Как мне скоро по их пути
За тебя —
родную,
проклятую —
На такую же смерть идти!
Самой страшной твоей дорогою —
Гранью ненависти
и любви —
Опозоренная, убогая,
Мать-и-мачеха,
благослови!
«Господи, что я скажу, что не сказано прежде?..»
Господи, что я скажу, что не сказано прежде?
Вот я под ветром Твоим в небеленой одежде —
Между дыханьем Твоим и кромешной чумой —
Господи мой!
Что я скажу на допросе Твоем, если велено мне
Не умолчать, но лицом повернуться к стране —
В смертных потеках, и в клочьях, и глухонемой —
Господи мой!
Как Ты решишься судить,
По какому суду?
Что мне ответишь, когда я прорвусь и приду —
Стану, к стеклянной стене прижимаясь плечом,
И погляжу,
Но Тебя не спрошу ни о чем.
«Круто сыплются звезды, и холод в небесных селеньях…»
Круто сыплются звезды, и холод в небесных
селеньях.
Этот месяц на взмахе — держись, не ослабя руки!
Закрываешь глаза — и за гранью усталого зренья
Конькобежец, как циркуль, размеренно чертит
круги.
В черно-белой гравюре зимы исчезают оттенки,
Громыхает глаголом суровое нищенство фраз.
Пять шагов до окна и четыре от стенки до стенки,
Да нелепо моргает в железо оправленный глаз.
Монотонная хитрость допроса волочится мимо,
Молодой конвоир по-солдатски бесхитростно груб…
О, какое спокойствие — молча брести через зиму,
Даже «нет» не спуская с обметанных треснувших
губ!
Снежный маятник стерся: какая по счету неделя?
Лишь темнее глаза над строкою да лоб горячей.
Через жар и озноб — я дойду, я дойду до апреля!
Я уже на дороге. И Божья рука на плече.
Октябрь 1982
«Молоко на строке не обсохло…»
Молоко на строке не обсохло,
А отчизна уже поняла,
И по нас уже плакали ВОХРы,
И бумаги вшивали в дела.
Мы дышали стихами свободы,
Мы друзьям оставались верны,
Нас крестили холодные воды
Отвергающей Бога страны.
А суды громыхали сроками,
А холопы вершили приказ —
Поскорее прикрыть медяками
Преступление поднятых глаз.
Убиенны ли, проданы ль братьям —
Покидаем свои города —
Кто в безвестность, а кто в хрестоматию —
Так ли важно, который куда?
Сколько выдержат смертные узы,
На какой перетрутся строке?
Оборванка, российская муза
Не умеет гадать по руке.
Лишь печалится: Ай, молодые!
Неужели и этих — в расход?
Погрустим и пойдем по России.
Озари ей дорогу, Господь!
Читать дальше