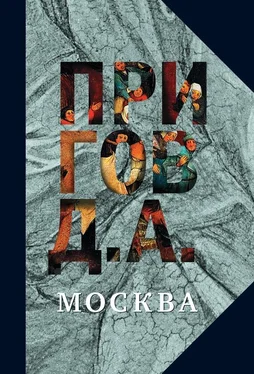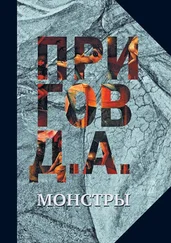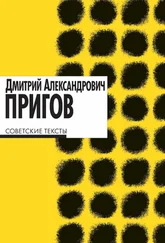Естественно, стилистические и структурные перемены являлись выходом, проявлением куда более сложных внутренних политико-идеологических и общественно-экономических проблем и процессов, происходивших в стране, но особенно в ее руководстве. Скрытые схватки сторонников старого со сторонниками перемен прокатывались по Советскому Союзу гигантскими валами репрессий, арестов, расстрелов, посадок и переселений народов. Пустели целые гигантские регионы, зарастали сорняками или заболачивались. Зато другие столь же стремительно осушались, освобождались от сорняков, покрывались невиданными порождениями человеческой инженерной и научной мысли и строительной энергии. На местах бывших пустырей возникали гигантские каналы, плотины, гидростанции, города, заводы, комбинаты. Все оплеталось блестящей паутиной металлических путей и ажурными мачтами электропередач. Потом так же стремительно исчезало. Потом возникало на другом неподготовленном месте. Ну, эти вещи вполне понятны в обыденной практике всего человечества. Они несложно выводимы из самой сути человеческого феномена и способов его обитания на земле.
Естественным следствием из вышеизложенного являлось особо пристрастное отношение в стране к литературе и деятелям литературы. Помню, собравшаяся молодежная компания, завершив выпивки-закуски, еще не перейдя к эротическим упражнениям, начинала без устали читать стихи. Читали наизусть и часами. За чтениями, бывало, настолько увлекались или уставали, что забывали о предполагаемых как основные и непременные грубых половых сношениях. Обходились, причем с лихвой, с избытком и ощущением некоего высшего удовлетворения, эстетической сублимацией. А в каком, собственно, мире-то, я вас спрошу, мы живем? Где докопаешься до простого, прямого соответствия действия такому же прямому отсутствию его осознания?! Да нигде! Есть хитрющие тактики и технологии как бы добывания будто бы прямого удовольствия. А копни поглубже – все та же самая сублимация.
Тогда же, в описываемые мной времена, все помнили неимоверное количество всякой рифмованной всячины, классики, полуклассики. Если же попадался живой поэт, то, естественно, его отпускали уже только окончательно измочаленного и полуживого. Господи, как тогда любили, знали, понимали, уважали поэзию! Литераторы воспринимались как неведающие и сами (а скорее всего, интуитивно догадывающиеся о том и неотказывающиеся) соучастники, пособники и соперники власти, а через то – надземного метафизического процесса. Как говорили в древности, собеседники богов. Отношение к ним со стороны руководителей было серьезное, но чудовищно сложное, запутанное, ревнивое и обидчивое. Амбивалентное, как бы сказали сейчас. Так, во всяком случае, представлялось нам со стороны, вернее – снизу. Одним из удивительнейших, непонятнейших актов руководства в свое время стало, например, признание Маяковского главным, наиважнейшим поэтом советской эпохи. Это вообще не укладывалось ни в какие стилевые тенденции, развивавшиеся тогда и уже укреплявшиеся на новом этапе становления жанра сакральных внутренних писаний. Единственно можно предположить, что данный шаг был глубоко продуман и рассчитан на образование постоянного очага раздражения, воспаления, заражения, позволявший бы все время то бороться с ним методом хирургического удаления новообразовавшихся наростов, то признавать некоторые особенности их функционирования вполне естественными чертами проявления некого объективного процесса.
Неоднозначно складывались отношения власти и со многими живыми, еще известными поэтами. Наиболее показательны перипетии тогдашней жизни великих Пастернака и Ахматовой. Первый обитал в Москве, обмениваясь постоянными телефонными звонками с Кремлем. Вернее, конечно, ему звонили, справляясь о разных непонятных мелочах. Например, раздавался специфический, долгий, настойчивый звонок, сразу угадываемый как звонок сверху. Пастернак поднимал трубку. Слышался голос с легким кавказским акцентом:
– Борис Леонидович, а как вы думаете, цены на водку вполне ли соответствуют представлению о должном, необходимом и реальном в народе и у нашей интеллигенции?
– Вы понимаете, – гудел Пастернак, – представления о должном и реальном весьма расходятся в их эпистемологическом…
– Понятно, – отвечали и клали трубку.
Ахматова же, проживавшая в своем родном Ленинграде, постоянно была запрашиваема. То есть вызывалась в Москву. Власти незаметно к ней присматривались, что ли, что-то выясняли, впрочем, так никогда и не проявляясь. Смысл вызовов оставался всегда таинственен, зачастую оформляясь под какоето реальное жизненное обстоятельство. Как, собственно, все чудесное является нам не насильственно, не супротив естественных законов. Просто оно может быть прочитано соответственно обоим кодам – как таинственное и как вполне случайное, но реальное, образовавшееся естественным ходом причин и следствий. Таким вот странным способом, в странное время, в странном месте.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу