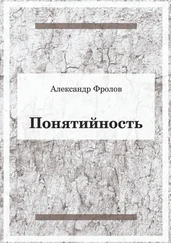во что-то большее,
чем просто тепло
комфортных апартаментов
клише, свод законов,
согласно которым мы движемся
в повседневных потоках
молекул, огибая внезапные вспышки
хаоса, нарывы
на смыслах, проломы
в стенах, одичавшие очаги
языка, где проглядывается потустороннее
образов – нас, уверенных в силе
логических оснований,
помещённых в прокол
на листе рассвета – маковые точки,
что дрейфуют по белку
яблока, чья тень длиннее
ночи – тень полдня, знание
о котором не даёт мне
уснуть в этом городе-моллюске
под крик улетающих турпанов
в истлевшем небе, пепельной дробью,
накрывшего улицы, знание
о невозможности
открыть глаза изнутри
книги, её сна о
нас, спящих в начале
чтения, произносимых
Чужим, кто-почва отказа
(occasionally resistance;
residence) от языкового
скелета, чтобы он мягкой плотью
улитки вытекал
на антрацитовые страницы
новой земли, уже горят корабли,
свитки не сохранить —
пусть дым станет
памятью о дне, когда мы
научились
читать.

Безличное
ты впол
оборота – мел
локтя: жёлтый:
освещенные склоны
холмов – мучное
солнце (соломенный ноль) кладёт
желток набок: втирается
беседой к нам – колосьям: поле
нагнувшись, – крошится магнитуда,
когда полюс лёг
на другой, коснувшись его
острия своим, как
остров уходит под воду, пока мы
спим незаметно
в смысловых воронках с изнанки
фразеологизмов, в углублениях
стен, но вероятнее в лезвии
дыма, рассекающим поток
света на две стороны
ночи (в правой – фабула
книги, в левой – слово),
пока лучевая ткань ниспадает
с любых утверждений, оголяя их
зольные груды, на хрупкую экзистенцию,
беспрепятственно просачиваясь сквозь
неё, в который мы паром
под потолком, нагретым
от встречи двух
точек в уколе, забытые
сутью, не замечаем как
остров не существует,
где мы хранили наши оболочки,
кору старых масок,
исписанные тетради, модели
сломанных миров, засушенный дождь, память
не по размеру, ржавые скелеты
облаков, чучело,
собранное из сорняков и останков
животных, что мы представляли, слушая
в детстве истории путешественников
(шариковые вергилии, whose
routеs are чернильные
всплески, вели в долины of In(k)can —
в способность письма выводить
за первую букву любого знания – letter k,
когда нам становится ясно, что
knowledge – лишь ledge of now – край,
планка, рудное тело «сейчас», в вывихе
(зеркала) которого угадывается
девятка – лицо, распылённое
в древних текстах, в спазматическом
струении горной гряды, в умножении
материи на себя: сумма
молекул которой равна
количеству морщин
(трещин) на числе)
(знал ли Данте о них,
раскручивая спираль (натягивая
пружину) своего ада; мы
вернулись в ледяные дома, и мёд,
разлитый когда-то по стенам, стал
копотью); чучело, что мы установили
в месте,
где поле, ты – полулёжа – смотришь
в открытую рамку осени, вскользь разворота
книги, дороги, меня – на отголосок стона,
услышанного тобой в звоне стекла бутылки, на
которую ты упустила
ключ от дома, где исчезают
листы писем, переживших
свою желтизну и расфокус текста в телах
дождя на полу темных
комнат – веди себя через
нас черничная вьюга письма,
пусть сбудется ночь
сразу в обеих частях и в отсутствии
острова мы напишем на воде цифру знания,
стены выйдут
из комы, из запятой,
разделяющей пояс планеты – стать
поверхностью нам – выстроить призму,
сквозь которую пройдет
слово за своей тенью
к внешности невозможного
лица.
Дождь – пальцы музыканта,
заставляющие звучать железо,
дерево, воздух – трава:
шелестит, когда диагональ воды
хлещет наотмашь по невидимым
трещинам в нём, от вдыхания которых
голос распадается на несколько
оттенков, как горох, что катится и
катится и катится по столу, когда белый шум
уже полчаса как вслушивается в тебя —
комната – расплёскиваясь по стенам
бегонией.
В рёбрах света читается день,
и мы – в нём – ожог от крапивы, ищем
островок живого – воспалиться.
Птицы медленны – поперёк двора —
толкают воздух, тесня дождь своим
переглядыванием. Рана утра рубцуется
пробуждением. Поверхность сна,
его слабость – запёкшееся.
Читать дальше