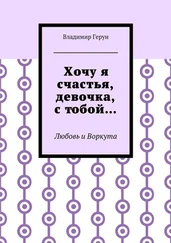На природу не пуская,
в созданный затор,
красным глазом не моргая,
смотрит светофор.
Два других перегорели,
чёрт бы их побрал, –
красный дышит еле-еле:
не моргать устал.
Не спешит регулировщик:
где-то пиво пьёт;
жрёт электрик щи у тёщи, –
пробкин хвост растёт.
К «Мерседесу» «Лада» жмётся,
к ней «КамАЗ» прилип,
об него «Субару» трётся,
а пузатый джип
чешет свой потёртый бампер
о мою «Оку»,
и теснит «Копейку» «Хаммер»,
с вмятиной в боку.
Та, на наглого чихая,
в сторону глядит
и, позиций не сдавая,
на своём стоит.
На асфальт летят окурки,
смачные плевки;
с дам сползают штукатурки,
импортной, куски;
над машинами отборный
русский мат кружит,
и в отсутствии уборной
потный злой мужик,
женщин в краску загоняя, –
лопнет же и всё!.. –
мочевой опорожняя,
льёт на колесо.
Холод страха спину дёрнул,
в душу мне проник:
как бы мой пузырь не лопнул:
я же не мужик.
От чудовищного зноя
плавится асфальт;
мой несчастный череп ноет,
будто сняли скальп;
нос потёк, хоть не простужен,
слёзы льют из глаз –
не платок сейчас мне нужен,
а противогаз.
Ну когда же рассосётся
тачек череда?!
Впечатленье создаётся:
пробка навсегда!
В сумках вина закипают,
тухнут шашлыки –
зря хозяев поджидают
дачки у реки.
Бесконечный хвост пугает:
загустел затор;
ну когда же заморгает
чёртов светофор!
2010 Киевское шоссе
Тот поцелуй стал нежно розовым,
когда коснулся первый луч
зари румяной новорожденной
полуоткрытых милых губ.
Был поцелуй небес синей,
шатром высоким отражённый
в глазах возлюбленной твоей,
таких сияющих, бездонных.
Когда же солнышком лучистым
вдруг осветились пряди кос,
тот поцелуй стал золотистым
под золотым венцом волос.
«Истерзало душное сомненье…»
Истерзало душное сомненье:
тó ли мною принято решенье?
Издавая тяжкое хрипенье,
вместо очарованного пенья,
на диван упало настроенье, –
срочно надо что-то предпринять,
чтоб его, сердешного, поднять.
Может, скушать баночку варенья
с килограммом сдобного печенья?
И исчезнет душное сомненье:
тó ли мною принято решенье,
и, вскочив на ножки, настроение
мне весёлым голосом споёт:
«Верное решение твоё!»
Я заросшею тропинкой
по душе своей бреду –
под трепещущей осинкой
отыскать свою беду.
Как та выглядит, не знаю –
на поганку непохожа –
по тоске её узнаю,
что морщинит сердца кожу,
да по запаху разлуки
увядающих цветов,
да по хриплым крикам муки
в гнёздах филинов и сов.
Горевала, горевала
и, в конце концов, устала
горевать
и рыдать я перестала,
и под нос тихонько стала
напевать:
про дарёные платочки,
про душистые цветочки
на лугу…
И улыбка появилась,
и надежда засветилась,
что смогу,
я, забыть ту осень, милый,
и далёкий вечер, стылый,
октября.
Подожду ещё немножко,
посмотрю из тьмы в окошко –
там заря.
«От горькой тоски ты устала?..»
От горькой тоски ты устала?
Ну что ж, посиди, отдохни
и радость, что на пол упала,
силёнки собрав, подними,
омой родниковой водицей,
с улыбкой взгляни на неё,
и радостью тут же простится,
что ты уронила её.
«Жизнь прекрасна, удивительна…»
Жизнь прекрасна, удивительна
и таких чудес полна!
Пусть порой течёт томительно
и бывает зла она,
часто хмурится и киснет,
как её не тормоши,
и плечом безвольно виснет,
и гнетёт в ночной тиши.
От неё мы ждём ударов:
иногда так сильно бьёт,
но как щедры те подарки,
что с улыбкой нам даёт.
Там, где плавали
да резвилися,
стены славные
возносилися, –
там, где люд нырял
в муть поганую,
гордый храм стоял
в пору давнюю.
На святой приход,
по Россеюшке,
собирал народ
по копеечке.
Над землёю стон:
о пяти главах
был разрушен он
и повержен в прах.
И на Русь пошли
силы тёмные,
деревеньки жгли,
разорённые.
Не видал народ
хуже бедушек:
не жалел тот сброд
даже детушек.
С той чумной ордой
еле сладили,
напряглись спиной,
жизнь наладили.
Не боясь беды,
яму вырыли,
много тонн воды
в неё вылили.
Ты, народ, молись,
да в других местах, –
здесь же веселись
мужики в трусах.
Читать дальше