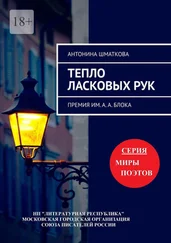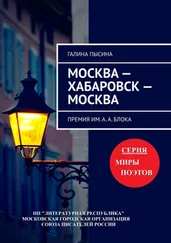Я выбрала самые длинные гвозди
и крепких слепых кузнецов пригласила —
и вены их, как виноградные грозди,
вздуваются чёрною грубою силой.
Вы наши ладони совместно пробейте,
(глаза зелены твои, будто бы мята)
и крови смешавшейся в чашу налейте,
и пейте вино за здоровье распятых!
Набелюсь и нарумянюсь,
юбку красную надену
и пойду походкой смелой
я за городскую стену.
Там под небом ярко-синим
лягу под кустом зелёным
с самым злым и самым сильным
я с бродягою влюблённым.
Будем с ним соревноваться —
он в жестокости – я в ласке,
буду нежно прижиматься,
губы закушу от страсти.
Я ему навстречу тело
так подам, как в воду кинусь,
как тебе подать хотела,
только ты меня не принял.
Самый злой тебя добрее:
не отвергнет мой подарок.
– Обними меня скорее,
поцелуй твой зол и жарок.
Как уйдёт он – не замечу,
мне теперь никто не нужен,
я платком закрою плечи,
косы заплету потуже.
И вернусь дорогой пыльной
мимо той стеклянной башни,
где ты что-то пишешь, милый,
где ты ищешь день вчерашний.
Вот теперь ты мной доволен?
Ты, любимый и свободный?
Мне сейчас почти не больно,
что ты был со мной холодным.
Ты не найдёшь меня среди живых
и среди мёртвых не отыщешь.
Харон среди теней людских
уже не слышит, как ты дышишь.
Под мёртвым языком обол лежит —
к Аиду путь теперь свободен,
Харон мне в душу поглядит —
он взгляд свой хмурый не отводит…
Из Стикса зачерпну святой воды
и, наклонясь с челна, умоюсь.
На берегу – своих родных
приму, прощу и успокоюсь.
Я здесь своя, я смерти не боюсь,
здесь всюду души предков реют.
Полынной горечи напьюсь.
В огне родных костей согреюсь.
Родные тени. Я теперь средь них.
И счастье полное такое…
Здесь новых встречая живых,
мы посидим на берегу. В покое.
Под стягом осени багряной
стяну я силы для броска,
и захлебнутся кровью пряной
твои разбитые войска.
Мне не нужна твоя корона,
мне не нужна твоя земля,
но я сломаю эти стены,
без жалости сожгу поля.
Ты десять лет держал осаду,
так были стены высоки,
что солнца не хватало саду,
и были яблоки горьки.
Я призову тебя к ответу:
Ты будешь робок, я грозна,
и буду я подобна свету,
слепящему твои глаза.
И ты мой счёт оплатишь смертью:
я жадно выпью твою кровь
и нежно вырву твоё сердце
и, размахнувшись, брошу в ров.
Я предъявляю счёт: ты должен
не пробудиться поутру.
Тебя хотела я так долго,
что этим вечером умру…
…И будет замок твой дымиться,
во рву станет кровью вода.
И души умерших солдат
разлетятся как птицы,
и только твоя
не покинет меня.
Никогда.
Осенних листьев горький аромат
твои глаза в тумане мне рисует,
дождь поцелуями прикидываться рад
и ими стать, мне кажется, рискует.
Листом кленовым, словно нимбом золотым
обманут Бог, как ласкою Иуды,
но самым нежным был лишь тот один —
из тысяч самых нежных поцелуев.
Обманчивы слова и «нет», и «да»,
обманчивы дождя косые струи,
но остаются неизменны навсегда —
измены, расставанья, поцелуи.
Смерть всех примет,
всех примирит,
избавит от забот
и, единственная,
будет всегда с тобой.
Там прегрешения отмыты,
там мёд забвения рекой,
и горький запах аконита
печаль снимает, как рукой.
Меж ярких башен наперстянки
белеют звёздочки цикуты.
К Давиду льнёт сунамитянка,
душою девичьей укутав.
Жизнь разведёт, а смерть сомкнёт объятья,
прохладен заботливо сотканный лён,
завёрнуты оба в смертельное платье
Каин и Авель – вдвоём.
Там, отвернув белый чистенький череп,
сложив на груди отчленённые кисти,
Иезавель, не предавшая веру,
лежит, облечённая в пурпур и виссон.
Там сосны колоннами строятся в ряд,
их корни – как жилы земли,
и, как богомольцы, покорно стоят
гранитные валуны.
И там, засыпая под музыку сфер,
поют, шелестят дерева,
всё так, как хотел всегда Олоферн:
Юдифь и его голова.
Читать дальше