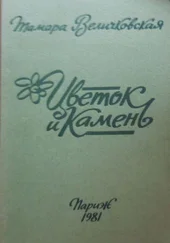И каждый свеженький мазок
По Петербургу еле-еле
Гуашью или акварелью
Я жду привычный долгий срок…
И в ожидание этом трудном,
Как галерист и как эстет,
Я говорю, что лучше нет
«Весны» работы Петербурга…

Мой тихий город,
Ты решил вздохнуть от гулкой речи бешеной толпы,
От стука каблуков по мостовой —
Ты просто нам закрыл пустые рты.
Теперь ты смотришь в разные глаза:
Вот грусть, вот радость,
Вот мечтанья снов.
Мой город шёпотом тихонько мне сказал:
«Глаза красноречивей громких слов».
Но горожанин так нетерпелив:
Пытаясь маску как завесу снять,
Чтоб рот свой шире снова приоткрыв,
Опять пустое пылко излагать.
Побудем в масках —
В них же столько лет
Играем будто в театре свои роли.
Смотри в глаза, и ты увидишь свет,
Любовь, тоску и очень много боли.
«Смотри в глаза», – мне шепчет Петербург,
«И, насмотревшись, думай, что сказать,
Чтобы счастливей стал твой ближний круг,
От всего сердца научись молчать».
Наблюдала сегодня, как выносят из
некогда пафосного плавучего ресторана
Летучий Голландец доски, балки, столы,
канделябры… Бры-бррр…
Летучему Голландцу посвящаю.
Голландец гордый тянется ко дну:
Рублём крещёный в перьях ярких знатью.
На корабельное протяжное: «Тону!»
Молчанием отвечают в море братья…
Ни неба синего, ни лязгающих волн
Так и не видел с именем отважным
Летучий призрак. Свой возможный шторм
Ты променял на штиль, увы, бумажный…
И жизнь твоя – швартовый чал-канат.
Цена свободы – призрачная сытость.
Я знаю, ты сейчас совсем не рад,
Что, будучи живым, узнал забытость.
Иди ко дну, бесславным был твой путь.
И пусть другим ты станешь лишь уроком,
Что, обманув Божественную суть,
Судьба твоя в миг обернётся роком…
Себя слышнее в одиночестве
Себя слышнее в одиночестве.
Как метроном звучит пульсация.
И каждый день как часть пророчества
Одной меня и целой нации.
Мы мним себя особой кастою,
Рецепт младенцам пишем значимо:
«Нам всем нужна социализация!» —
Грозим себе же белым пальчиком.
И мы бурлим, кипим идеями,
Заводим сети, ловим новеньких.
Молчать нельзя, а то – забвение!
Пиши, кричи, болтай, пусть поверху!
И в этом улье глупых выкриков,
Пустых советов жирным почерком,
Стараюсь я потише выдохнуть:
Себя слышнее в одиночестве…
Из тех руин, что жизни – черепки,
Острее всех мне кажутся как будто
Те глиняные колбы пустоты,
Которые разбились ранним утром…
И есть же клей, и есть гончарный круг.
И обжиг твой известен нежным чашам.
Но есть в руинах, словно память рук,
Замёрзший след, свидетель тайны нашей.
И берегу я эти черепки.
Смотрю на свет сквозь тонкости фарфора.
Мы были недостаточно крепки
Для росписи простым совсем узором…
Пузырится в Питере зима.
Будто девочка, застрявшая в капризах,
Смотрит мокрыми глазами свысока,
И ночами ходит по карнизам.
Ей кидают в душу кулаки:
«У, ленивая, куда ты дела холод?».
Будто бы их белые носы
Спрятаться в шарфы уже готовы.
Не толкайте нежную зиму.
Пусть бока её сейчас не белы.
Поведение я её пойму —
Так непросто быть окаменелой.
Женщине морозной – тяжкий крест,
Пусть она роскошная, но льдина.
И она пошла наперерез —
Может быть, ей встретился мужчина…
От любви и в Питере – весна
Потеплела, мягкостью ласкает.
Не браните, люди, небеса:
То зима от счастья просто тает.
Так долгожданна женщине весна
Так долгожданна женщине весна.
Лучи пусть редко, но так греют душу.
И медленно от длительного сна
Всё чаще бьется сердце. Вот, послушай.
Стучит всепобеждающая новь,
Меняя явь в тревожном ожидании.
Пульсирует в запястьях нежных кровь
И жизнь готова снова к созиданию.
Весною ищет женщина себя,
Как будто луч ей – верная указка.
И март так долгожданней октября,
Как будто бы начало новой сказки.
Читать дальше