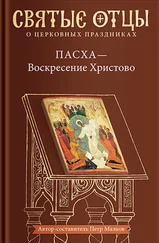майка на лямочках – время в песке,
крепко завязли ноги.
море то близко, то вдалеке
по побережью бродит
дети галопом туда-сюда
солнце их нежно гладит
и веселит отпускная волна
весь этот детский садик
бьется привязанный, как к столбу,
синий ничейный шарик
мама его не отдай никому
он нам пока мешает
мне по колено вчерашний груз
тихо врастаю в остров
если не выкручусь, то вкручусь
стану чуть ниже ростом
стану понятливей, чуть добрей
выращу до лопаток
волосы, счастье куплю в декабре
и не одно – десяток
время на лямочках, майка в песке
больше не взять попыток
воздух горячий глотаю во сне
тихая мама-рыба.
Там в прошлой жизни, в середине
на самом кончике иглы.
Мы были сотни раз судимы,
но чаще были спасены.
От нас открещивались ветки
от нашей ветреной любви
И кофе был нещадно крепким
как руки крепкие твои.
Мы жили в нашем тайном мире
ты улыбался, я лгала,
А дым хозяйствовал в квартире
и отражался в зеркалах.
Там на продавленных подушках
казалось, было неспроста —
любое время было лучшим
и запредельной – высота.
Теперь мы живы только в письмах
в упрямом росчерке руки
И в том знакомом взгляде – лисьем,
что мне о многом говорит.
Скорбно вечер ласкает рамы,
словно выставленный жених.
Все похожи на нас романы,
с каплей разницы в этот миг.
Все что вечером оживает,
днем шевелится, копошась,
и куда-то спешат трамваи,
и туда же спешит душа.
Лампе тоже смешно и душно
в этой комнате для двоих,
и она прижимает уши
и то дышит, а то горит.
Места мало в пустой квартире:
стол – кровать – табурет – окно
и ночник суетливо тушит
то, что выкипело давно.
Мы на равных: Москва и Питер.
Два квадрата пустых окон.
И горчит на столе бифитер,
и внутри огорчает он.
Тихо спит до утра мобильник,
как уставший за день сурок.
Заметает тоской и пылью
и уходит в седой песок
все что было, что помнить трудно
и забыть тяжелей вдвойне.
Хорошо, что приходит утро
в звонко треснувшей тишине.
год ушел – календарь подпоясав,
покачнувшись, кажись, был пьян
он такие чудил выкрутасы
был таким отрывным смутьян
он все выполнил, но до срока
чуть замедлил свое кино
долго осень стучала в окна
в чисто вымытое стекло
мы терпели его проказы
и казалось, был каждый рад
что скучать не пришлось ни разу
когда год отрывался – гад
мы ему пожелали всуе
все что на сердце, а потом
удивились, все также дует
в наступившем
уже другом.
Белый шершавый камень – на вкус – соленый
В море, большое море, как Грек влюбленный
Рос и на зависть вырос, глядите сами —
Небо, большое небо качает руками
В Греции каждый камень на век умножен
Каждый белее другого и тверже и строже
С нежностью волны его обнимают и лижут
Камень не злится, ведь что с них возьмешь?
свои же…
Плохо помню,
как я одна оставалась
в переходах осени, на краю —
/там на край сбежалась такая жалость,
до сих пор не ведаю что творю./
почему по крошкам и осторожно
собираю все артефакты дня:
как вела к тебе, упираясь, дорожка,
а потом легко увела меня.
как взлетала в небо стальная птица
и крылом цеплялась за облака…
мне ее полет почему-то снится,
только ты не снишься мне никогда.
как смешно вздымалось, ну, точно парус!
платье красное выше худых колен,
и твое лукавое: «я останусь»,
но зажатый крепко в руке билет.
перелетное время, в часах секунды
мелко крошатся – их неучтенный бой…
выпадает снегом на парк безлюдный
покрывая прошлое под собой.
Мы встретились на кухне у разлуки
Пылится тень у краешка стола,
Дожевывает вычурную скатерть.
Невестой, не дождавшейся объятий,
Свисает ее прядь —
белым-бела…
Не разомкнуть столешницы – кольца.
Трудяга чайник греется до пота
/Такая уж у чайников работа —
Соединять остывшие сердца/.
Вся жизнь, как блюдца, выстроилась в ряд…
Как долго мы с тобою не молчали!
И тишину нарушив: «Может, чаю?»
Ответом обжигаюсь: «Буду рад»…
Читать дальше