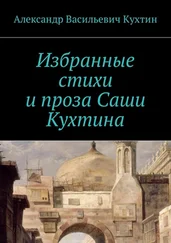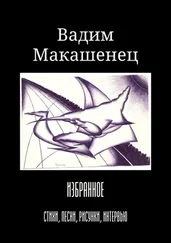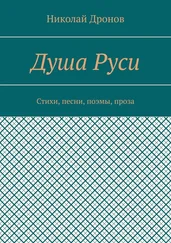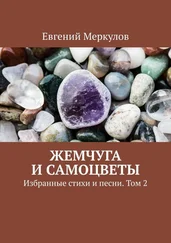Я вижу на холсте снегами убелённый
Васильевский. Возок торопится по льду.
Дворцовый мост вдали, Ростральные колонны, –
Так выглядело всё в пятнадцатом году.
Пустынен невский лёд. Ещё трехтрубный крейсер
Из моря не спешит на помощь Ильичу.
Мой дед среди болот над чёрствой коркой пресной
Всё молится и жжёт до полночи свечу.
Вот угловой наш дом, в котором и в помине
Меня пока что нет. Вот Соловьевский сад,
Гуляющие в нём, и краски на картине
Пока ещё не мне, а им принадлежат.
Над площадью Труда – мерцанье колоколен, –
От них уже давно не сыщешь и следа.
Семь лет пока отцу, и учится он в школе, –
Лишь через десять лет приедет он сюда.
Я верить бы хотел, что мой потомок дальний
В каком-то для меня недостижимом дне
Увидит этот холст, и зыбкий контур зданий
Покажется ему знакомым, как и мне.
Пусть будет мир снегами запорошён,
Пусть те же за окном клубятся облака,
Покуда он глядит, задумавшись о прошлом,
На улицу и дом, где нет его пока.
Мой дед утверждал, что радио придумали большевики
(И он, и его старуха их жаловали не очень),
Не смеха придумали ради – думать уже не с руки,
Когда тебе что-то в ухо с утра кричат и до ночи.
Усердно молившийся Богу он пережил трёх царей,
И в восемьдесят четыре себя ощущал не старым,
Всегда соблюдал субботу как верующий еврей,
Из радостей бренных мира русскую баню с паром
Предпочитая другому. Он умер в тридцать шестом,
Не зная хмельного зелья, на пороге эпохи гиблой,
А бабку в военные годы немцы уже потом
Живьём закопали в землю, – где теперь их могилы?
Мой дед невелик был ростом, лыс и седобород.
Когда его вспоминаю, видится мне иное:
Лугов белорусских росы и вязкая ткань дорог,
Которую припоминаю пыльной своей ступнёю.
В вечернюю тихую пору куда-то мы с ним идём
Сквозь тёплый и синий воздух, и небосвод над нами
Как бархатный свиток Торы вращается, и на нём
Высвечиваются звёзды жёлтыми письменами.
Отец мой умер на моих руках.
Не верую в переселенье душ я.
Сценарий смерти я, себе на страх,
Знал наперёд: кровь горлом и удушье.
Его лицо я не могу забыть
С улыбкой виноватою и странной,
Когда отца успел я обхватить
Руками, – он упал, дойдя до ванной.
Об этом часто вспоминать не смею.
Любовь – не подвиг, жизнь – не самоцель.
Что сыну написать могу в письме я,
Отправленном за тридевять земель?
В его последних, так сказать, строках?
Сижу один, не зажигая света.
Отец мой умер на моих руках, –
Не каждому даётся счастье это.
Я разбирал отцовское жильё,
К нему боясь притронуться вначале.
Пускай вас минет, пуще всех печалей,
Унылое занятие моё.
И позднее отчаяние жгло
Меня, когда медлительный и робкий,
Я книги упаковывал в коробки
И в тряпки заворачивал стекло.
Мне вспомнились блокада и война,
Пора бомбёжек и поспешных сборов,
Закрашенные купола собора,
Что виден был из нашего окна.
Осколки бомб царапали фасад,
Но, связывая узел из одежды,
Вернуться я надеялся назад, –
Теперь на это не было надежды.
Я разрушал отцовское жильё,
Дом детства моего, мою защиту.
Пусть этот подвиг будет мне засчитан,
Когда земное кончу бытие.
Был интерьер его неповторим
В пространстве тесном с мебелью не новой.
В той комнате, что спальней и столовой
Немало лет служила нам троим.
Сюда сентябрь зашвыривал листву,
Июньский свет в окне полночном брезжил.
Женившись, переехал я в Москву,
И навещал родителей всё реже.
Я вспоминаю поздние года,
Когда работой суетной измучен,
Здесь ночевал наездом иногда
На стареньком диванчике скрипучем.
За занавеской лунный свет в окне
Тяжёлая раздваивала рама,
Часы негромко били в тишине, –
Всё хорошо, мол, спите, ещё рано.
Крахмальная хрустела простыня,
Родители дремали по соседству,
И взрослого баюкало меня
Пушистое прикосновенье детства.
Был кораблю подобен этот дом,
Куда я заезжал всего на сутки.
Раскачивались ветки за окном,
И пол скрипел, как палуба на судне.
Мне всё казалось неизменным в нём,
И сам я, возвратившийся из странствий,
Не замечал, что вместе мы плывём
Во времени, увы, а не в пространстве.
Летучим снегом сделавшись, вода
Легла на Землю чёрную устало,
И ранние настали холода,
Когда внезапно матери не стало.
Отцу здесь горько было одному, –
Он сгорбился и высох от страданий,
Но был он педантичен, и в дому
Поддерживал порядок стародавний.
Сияла так же люстра над столом,
Смотрел с портрета на вошедших Пушкин,
Сияли статуэтки за стеклом, –
(Мать с юности любила безделушки).
Пора спешить – машина ждёт внизу.
Воспоминаньем сердца не утешу.
Я вещи в новый дом перевезу,
И люстру над столом своим повешу.
Пускай они врастают в новый быт,
И новое приобретают имя.
Пусть будет факт потомками моими,
Столь очевидный для меня, забыт,
Что этот рог смешной из хрусталя,
Резной орёл из дерева и кресло, –
Не вещи, а обломки корабля,
Которому не суждено воскреснуть.