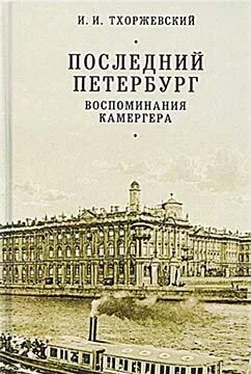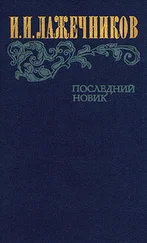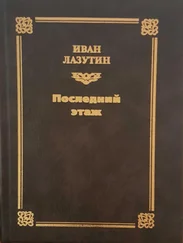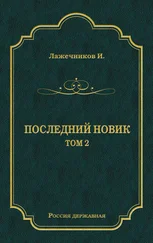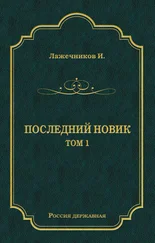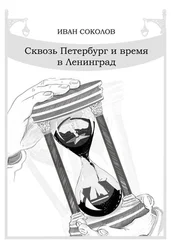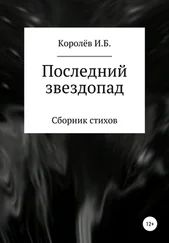Если теперь, после стольких искупающих лет изгнания и честной, упорной борьбы А. И-ча с угнетателями России, даже и теперь, и то! — около его имени закипает, справа, горячая смола ненависти, то что же вспыхнуло бы тогда? Ведь тогда еще был свеж приказ военного министра революции, наградивший орденом — вынужденно, но наградивший — первого солдата, убившего своего офицера!..
Слишком резко порвал А. И. Гучков со своим личным — и с нашим! — прошлым, в котором у него были — этого нельзя забывать ни в какой полемике! — крупные, исторические заслуги. Эти заслуги относятся ко времени борьбы с первой революцией. Гучков встал тогда за власть — не колеблясь. Как сильный и самостоятельный человек, он вообще всегда был свободен от интеллигентного «трафарета» и первый из общественных деятелей стал помогать Столыпину.
Высокая гора был Петр Аркадьевич Столыпин! И был он человек самонадеянный, скажу больше, высокомерный, не любивший быть кому-либо обязанным. Но мало кем дорожил Петр Аркадьевич так открыто, так безбоязненно, как дорожил он А. И. Гучковым, его политической думской помощью. Поэтому не только не разделяю злобно-непримиримой ненависти к Гучкову, но не устану подчеркивать его заслуг — в дни и годы близости к Столыпину.
Скажут: тут-то и была самая спорная часть столыпинского наследства — Дума!
Достаточно было, однако, находиться хоть бы на государственной службе в России до Думы и при Думе, чтобы отчетливо оценить громадное и полезное значение перемены. Результаты первой и второй половины царствования несравнимы. С Думой поток свежего воздуха ворвался в деловые, но окостенелые петербургские канцелярии. «Народное представительство, — говорил Бисмарк, — замечательное возбуждающее средство для господ чиновников». Открытая общественная критика заставляла готовиться к ней, пересматривать все заведенные порядки, переоценивать по-новому и людей и традиции. Даже если считать, что Дума должна была представлять собой только «мнение» русской земли, а власть и направляющая работа должны были оставаться за царским правительством, и то! — нельзя было не видеть громадного нравственного и делового роста, при Думе, даже этой «казенной» работы… Политическое, да и нравственное значение Думы, разумеется, не исчерпывалось влиянием ее на правящих. В Думе был залог роста всей вообще русской — военной, хозяйственной и культурной — мощи…
Первые дни войны и всенародного подъема показали, какие великие возможности сближения Петербурга (власти) и России (земщины) таила Дума.
Нужно было поистине староверческое, глухое упорство последних правящих сановников, избранных зловещим, фатальным жребием, чтобы отбросить даже и эту патриотическую, правую Четвертую Думу в левый, враждебный лагерь! Оттолкнули, замкнулись в непримиримой ненависти, испробовали — вместо примирительного, европейского, столыпинского пути — свой, черный, узкоколейный! И привели — к бездне. Эти сановники разделяют с Думой ее вину в том, что вспыхнула революция.
Революция прервала и исказила поступательный ход русской истории, но предшествовавшие ей годы были годами блестящего развития, «просперити».
По поводу оценки мною деятелей той эпохи, белградское письмо ставит мне на вид следующее: «Вы преувеличиваете размеры Витте. Но даже если с вашего изображения скостить и 75 процентов, останется очень много. Витте был гениальный администратор, именно администратор, а не политик. Столыпин же был не столько администратором, сколько политиком, и, как политик, он превосходил Витте . У Столыпина было непосредственное чутье революции, ее опасности, чутье борца . Витте умел маневрировать. Столыпин же умел бороться. Даже его ошибки были ошибками борца.
Именно как борец он импонировал Гучкову, который сам был борцом, но низшего порядка».
С этим спорить трудно, да и незачем: правда — выпирает из этих слов моего оппонента!
Витте и Столыпин. И тот и другой делали настоящую русскую историю именем царской власти и опираясь на ее силу. Кроме них, действовали и другие. Но на расстоянии, в отдалении от горного хребта, всегда виднее его вершины. Вблизи, в горной тесноте, труднее отличить именно эти вершины от соседних, соперничающих с ними гор, теснящихся тут же, ревнивых, поочередно освещаемых солнцем либо затуманенных облаками… Так и современникам, даже сотрудникам, трудно по-настоящему оценить, среди государственных деятелей, людей подлинно исторических… Потомству — они виднее. В отдалении фигуры их вырастают, уже неоспоримо, над общим горным массивом.
Читать дальше