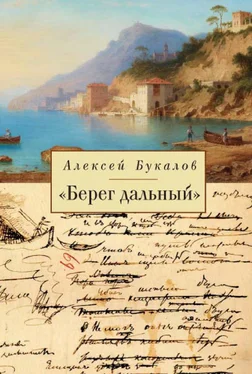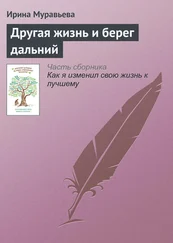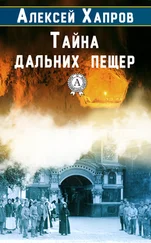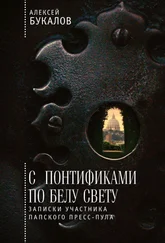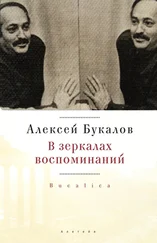Еще один герой романа вышел из «семейственных преданий». Поистине неисчерпаемый источник!
Они и в войске и в совете,
На воеводстве и в ответе
Служили князям и царям…
А.С. Пушкин. «Езерский» (V, 98)
«Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским» – так неожиданно от первого лица начинает Пушкин IV главу романа.
«Он происходил от древнего боярского рода [315], владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту; дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин, по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины» (VIII, 19).
Несколько ранее, на ассамблее, Ржевский был нам представлен «мужчиной пожилых лет, виду важного и сурового» (VIII, 17).
Образ Г.А. Ржевского, один из самых колоритных в романе, тоже «синтетического» происхождения. Многое в нем взято из «семейственных преданий», кое-что привнесено из истории известных Пушкину старых русских бар (в частности, среди прототипов Ржевского можно указать упомянутого еще Грибоедовым в «Горе от ума» богатого помещика-самодура Л.Д. Измайлова) [316].
Пушкин сообщает читателям, что Гаврила Афанасьевич – вдовец, что единственная дочь его «воспитана по-старинному», и вновь упоминает об «отвращении» Ржевского «от всего заморского».
«Оппозиционный» характер фигуры старого боярина подчеркнут его собственным словами в V главе романа:
«Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство? – сказал тесть. – Давно пора. Али предложил быть в посольстве? что же? ведь и знатных людей – не одних дьяков посылают к чужим государям.
– Нет, – отвечал зять, нахмурясь. – Я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна, хоть, может быть, православный русский дворянин стоит нынешних новичков, блинников да басурманов, – но это статья особая» (VIII, 24).
Речь боярина Ржевского образна и индивидуальна: «Сказал бы словечко, да волк недалечко», – в застольной беседе. Или с холопами: «Вы что зеваете, скоты?»
Боярин Ржевский [317]стоит в ряду образов русского барина и в творчестве самого Пушкина, и в последующей литературе. В.О. Ключевский выделил его, когда говорил о типичных персонажах русской истории:
«Позади их всех стоит чопорный Гаврила Афанасьевич Ржевский в «Арапе Петра Великого». Это – невольный, зачисленный в европейцы по указу русский. Все его понятия и симпатии принадлежат еще старой неевропейской России, хотя он и не прочь послужить на новой службе и сделать карьеру. Это еще не тип европеизированного русского, а скорее русская гримаса европеизации, первая и кислая. Вкус новой культуры еще не привился; но это вопрос недолгого времени».
И далее историк заметил: «…У Пушкина находим довольно связанную летопись нашего общества в лицах за 100 лет с лишком. Когда эти лица рисовались, масса мемуаров XVIII века и начала XIX века лежала под спудом. В наши дни они выходят на свет. Читая их, можно дивиться верности глаза Пушкина. Мы узнаем здесь ближе людей того времени; но эти люди – знакомые уже нам фигуры. «Вот Гаврила Афанасьевич, восклицаем мы, перелистывая эти мемуары, а вот Троекуров, князь Верейский и т. д. до Онегина включительно» [318].
Для «погружения» в мир боярина Ржевского Пушкин выбирает действие значительное и символичное – званый обед в его доме:
«День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего указами государя и собственным его примером <���…> Пошли за стол. На первом месте, подле хозяина, сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семидесятилетний боярин; прочие гости, наблюдая старшинство рода и тем поминая счастливые времена местничества [319], сели – мужчины по одной стороне, женщины по другой: на конце заняли свои привычные места: барская барыня в старинном шушуне и кичке; карлица, тридцатилетняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между которою отличался дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностию. Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведениям старинной нашей кухни, звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие» (VIII, 20–21) [320].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу