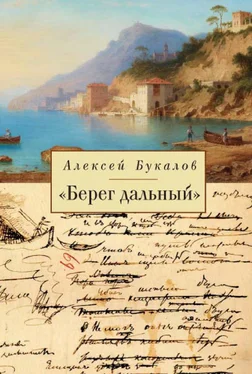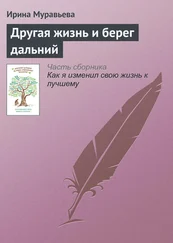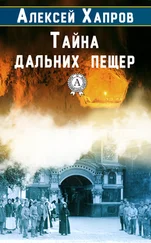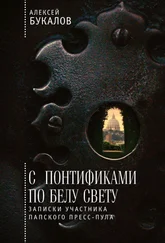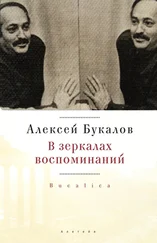Впрочем, Пушкин сам однажды объяснил причину своей убежденности: в заметке о Сальери (1932) он написал: «В первое представление “Дон Жуана”, в то время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист – все обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из залы, в бешенстве, снедаемый завистью. Сальери умер восемь лет тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении – в отравлении великого Моцарта. Завистник, который мог освистать “Дон Жуана”, мог отравить его творца». ( ХI, 218 )
О том же, с любопытной оговоркой, Пушкин рассказывал на придворном масленичном балу 6 марта 1834 года петербургскому приятелю и «римлянину», художнику Григорию Гагарину, который записал разговор:
«Я спросил у Пушкина, почему он позволил себе заставить Сальери отравить Моцарта; он мне ответил, что Сальери освистал Моцарта, и что касается его, то он не видит никакой разницы между “освистать” и “отравить”, но что, впрочем, он опирался на авторитет одной немецкой газеты того времени, в которой Моцарта заставляют умереть от яда Сальери». Гагарин сообщил об этой беседе в письме к матери [926].
Специалистам удалось точно установить этот пушкинский источник. Речь шла о лейпцигской «Всеобщей музыкальной газете», напечатавшей в 1825 году статью Рохлица с указанием, что Сальери, умирая, признался в своем преступлении [927].
Не будем утомлять читателя, о «Моцарте и Сальери» написаны тома специальных исследований. Их авторы едины в одном: сделав Сальери преступным отравителем, которого обуревает чувство зависти к Моцарту, Пушкин вложил в уста своего «антигероя» многие важные для себя самого истины и мысли. (Что естественно для художника, ибо сказано Флобером: «Эмма – это я»!) Некоторые из этих максим прозвучали тогда просто кощунственно, как, например, эти первые строки трагедии:
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше… ( VII, 123 )
Через признания Сальери Пушкин поведал миру и о своих собственных реальных переживаниях:
…Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, с легким дымом исчезали… ( VII, 124 )
Известно, что Пушкин сжег свои бумаги в Михайловском после декабря 1825 года, когда опасался ареста, среди них, предполагают исследователи, находились черновики стихов, автобиографические заметки и наброски биографии прадеда, «царского арапа». Такая же судьба постигла Х главу «Евгения Онегина» в Болдино, в 1830 году [928].
Ремесленные представления об искусстве Пушкин тоже изложил словами итальянца, ставшими крылатыми:
…Звуки умертвив,
Музыку я разъял как труп. Поверил
Я алгебру гармонией… ( VII, 123 )
При этом Пушкин ни на минуту не забывает, что Антонио Сальери – сын «Италии счастливой», служитель ее муз, вот почему именно им названы важные для самого поэта высокие имена из мира итальянской живописи и словесности:
Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля…
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери [929]. ( VII, 126 )
В трагедии упомянут и земляк Сальери итальянский композитор Николо Пиччини (1728–1800), автор оперы «Последний день Помпеи», соперник прославленного немецкого музыканта Христофора-Вилибальда Глюка. В 70-х годах ХVIII века в Париже разгорелась борьба между приверженцами французской оперы («глюкистами») и сторонниками итальянской оперы («пиччинистами»). В пушкинском тексте находим отголосок этой полемики: ученик Глюка – Сальери возмущается успехами Пиччини у «диких парижан» [930].
Историки литературы отметили особенность пушкинского отношения к своим «европейским» героям. «Русские писатели отвоевали у западной цивилизации всё, что можно было, показали пример умелого обращения с ядовитыми ее веществами, извлечения из них пользы, без того, чтобы самим отравиться. Первый пример, как всегда, – Пушкин. Он ввел современного европейца, с его личной замкнутостью, с его недоверием к миру, с его аскетизмом работы, с его корыстью, с его односторонней волей – Скупого Рыцаря, Сальери, Гер-манна…» [931].
О, если бы бессмертье красоты
Я мог делами выразить хоть малость…
Микеланджело Буонарроти
И, наконец, Пушкин устами Сальери воскрешает старую легенду, бытовавшую в Риме, о том, что великий Микеланджело якобы приказал убить натурщика, чтобы нагляднее запечатлеть в мраморе мертвое тело. Это заключительные строки трагедии:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу