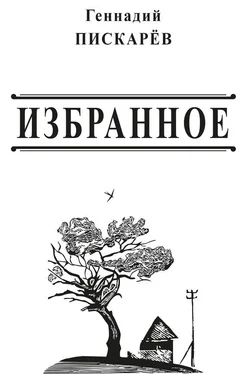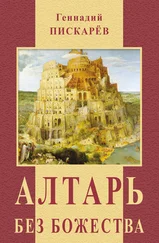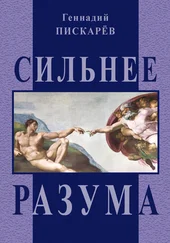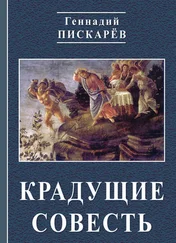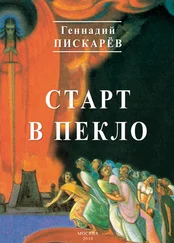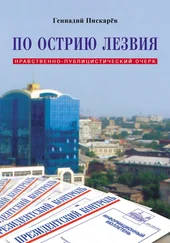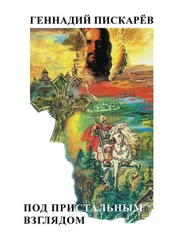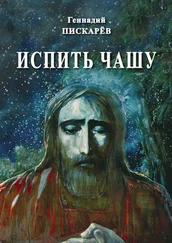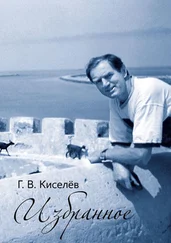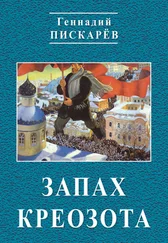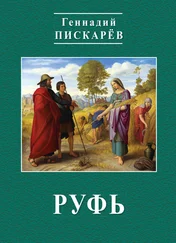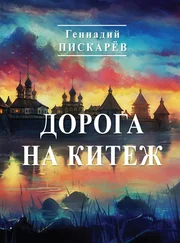И горцы, и русские как бы почувствовали: они близки по духу, менталитету. Не будь этого, разве бы появился на свет образ Максима Максимовича из «Героя нашего времени», носителя лучших человеческих качеств: любви ко всему живому, сострадания к чужой боли, смелости и благородства? И разве случайно написал Александр Пушкин «Подражание Корану» – Корану, благодаря чтению которого он, свободолюбивый поэт, вообще-то, немалый безобразник и повеса, пришёл к пониманию смирения перед Всевышним, к чему, между прочим, призывает и православное Евангелие? А Лев Толстой? Не у кавказца ли Кунта-Хаджи заимствовал он основы учения непротивленья злу насилием? Понятно, что и герой нашей беседы Лермонтов, пропитанный насквозь соками, духом Кавказа с малых лет (в Горячеводск, в имение своей родственницы на Тереке, его не раз возила в детстве бабушка), воспевая вольный край, пробуждал чувства добрые к людям его населяющим. Он сеял зёрна дружбы и любви, без которых нет мира среди народов. Да что там! Однажды мне довелось прочитать в одном из его писем к А. А. Лопухину, как он собирается идти с отрядом на поимку Шамиля. Поразила фраза: «Завтра я еду в действующий отряд на левый фланг в Чечню брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, не возьму…». Каково? А? Не подумайте, что я прибегаю к таким фактам, как заштатный адвокатишка русского гения. Нет. К тому же, Геннадий Александрович, я читал вашу «Кавказскую драму», где вы, описывая схватку безумных гордецов и себялюбцев на реке Валерик, самого Лермонтова ставите как бы над происходящим, вещающим из поднебесья:
Я думал: жалкий человек!
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем;
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?
– Спасибо за внимание к моему скромному творчеству. Но в той неоконченной драме я ставил целью своей показать Лермонтова как пророка, в «очах людей» читающего «страницы злобы и порока». Я пытался показать духовную драму, вызванную тем, что он остаётся не понятым окружением:
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
Лермонтов – пророк…и довольно мрачный. В своей работе я и стихи привожу соответствующие:
Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
‹…›
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь – и поймёшь,
Зачем в руке его булатный нож.
– Что сказать на это? Пророки, как мусульманские, так и христианские, видимо, редко бывают, как уже отмечалось выше, оптимистичны в своих предсказаниях. Вспомним мусульманскую притчу. Пророк Мухаммед спросил архангела Джабраила: «Посетишь ли ты землю после смерти моей?» Архангел ответил: «Неоднократно. Это будет тогда, когда земля оскудеет, и люди потеряют любовь, когда народ потеряет терпение, учёные – знания, а богатые – милосердие. А в последний раз мне придётся спуститься с небес, чтобы забрать у людей Священную книгу и Веру, и наступит для них последний день».
– В библейской истории этот день называется Страшным судом. «Но есть и божий суд, наперсники разврата!» – восклицаем и мы вслед за Лермонтовым.
Наверно, предсказания поцелованных Богом людей являются ничем иным, как предупреждением Всевышнего человечеству, недобросовестно исполняющему Божьи Законы. И таких предупреждений было уже несколько, сопровождались они горем и разрушениями: изгнанием человека из Рая, всемирным потопом… Но Всевышний даровал и всемилостивейшее спасение греховным существам, вразумлял их через пророков, Иисуса Христа, ставшего искупительной жертвой за грехи людей и давшего миру новый нравственный закон-закон любви.
– Такой закон проповедовал и Мухаммед, посвятивший описанию добрых деяний Псы (Иисуса) немало строк в Коране. Там, между прочим, фигурирует и мать его – дева Мария. Единственная женщина, имя которой приведено в мусульманском катехизисе.
– Бог, Абубакар Алазович, един, хотя и не в одного мы веруем, так гласит народная мудрость. Но грешен человек, грешен. Мало того, он продолжает как бы провоцировать Бога, подобно Григорию Печорину из лермонтовского «Героя нашего времени». Заражённый смертельной болезнью неверия, отказавшийся от благого божественного промысла, четырежды прощаемый Всевышним за противление ему, мятежник Печорин в конце концов получает сполна по своей вере: умирает, возвращаясь из Персии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу