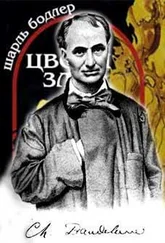Если бы не страх унизить себя перед столь обширным собранием, я бы охотно упал к ногам этого великодушного игрока, чтобы поблагодарить за неслыханную его щедрость. Но когда я расстался с ним, неутолимое сомнение мало-помалу закралось мне в сердце; я больше не решался верить в столь чудесную доброту, и когда ложился спать, то, все еще по глупой привычке молясь Богу, я несколько раз повторил: «Боже мой! Господи Боже мой, сделай так, чтобы дьявол сдержал свое слово!»
Куда ни глянь — ширилась, растекалась и веселилась праздничная толпа. Был один из тех праздников, на которых долго строят свои расчеты паяцы, фокусники, владельцы зверинцев и бродячие торговцы, чтобы наверстать трудные времена года.
В такие дни мне сдается, что народ забывает все — и горе и труд; он становится как ребенок. Для ребятишек это день свободы: школьные ужасы отложены на двадцать четыре часа. Для взрослых это перемирие, заключенное с лютыми силами жизни, передышка среди всеобщей при и борьбы.
Даже человек из общества и человек, занятый умственными трудами, нелегко избегает влияния этого народного празднества. Невольно вдыхают они свою долю беспечности. Лично я, как истинный парижанин, никогда не упускаю случая сделать смотр всем балаганам, пестреющим в дни таких празднеств.
Вот и теперь они изо всех сил соперничали друг с другом: они визжали, ревели, рычали. Это было месиво из криков, медного звона и хлопания фейерверков. Шуты и кривляки гримасничали своими загорелыми лицами, заскорузлыми от ветра, дождя и солнца; с развязностью актеров, уверенных в успехе, бросали они словца и шуточки, крепкие и тяжеловесные, как у мольеровских комиков. Геркулесы, гордые непомерностью своих членов, низколобые и плоскоголовые, как орангутанги, величественно растопыривались в своих трико, выстиранных накануне ввиду обстоятельств. Плясуньи, прекрасные, точно феи или принцессы, прыгали и порхали, озаренные фонарями, которые тысячи раз отражались в их юбках, сверкавших искрами.
Все превратилось в сплошной свет, пыль, гам, веселье, сумятицу; одни тратились, другие наживались — все с одинаковой радостью. Дети цеплялись за юбки матерей, выпрашивая какой-нибудь леденец, или вскарабкивались на плечи отцов, чтобы лучше видеть шарлатана, сияющего, как бог. И надо всем, побеждая все запахи, носился масляный чад, который был благовонным курением сего празднества.
В конце, в самом дальнем конце балаганного ряда, словно сам он, стыдясь, изгнал себя из всех этих великолепий, я увидел нищего паяца; горбатый, дряхлый, изнеможенный, развалина человека, он сидел, прислонясь к косяку своего жилища, более нищенского, чем жилище самого жалкого дикаря; два ряда сальных свечей слишком хорошо освещали это убожество.
Всюду веселье, нажива и кутерьма; всюду уверенность в куске хлеба на завтрашний день; всюду бешено кипит жизнь. Здесь — совершенная нищета, нищета, в довершение ужаса, наряженная в комические лохмотья, пестротою которых она обязана более необходимости, нежели искусству. Несчастный! Он не смеялся. Он не плакал, он не плясал, не махал руками и не кричал, никакой песни не пел он, ни веселой, ни заунывной; он не просил о помощи. Он был нем и недвижен. Он все отверг, от всего отрекся. Судьба его совершилась.
Но каким взглядом, глубоким и незабвенным, пробегал он по толпе, по огням, которых прибой останавливался в нескольких шагах от его отталкивающей нищеты! Я почувствовал, что мое горло сжато страшной рукой истерики, и мне казалось, что взор мой застлан теми стремительными слезами, которые не хотят вытечь.
Что делать? К чему спрашивать у несчастного всякие странные вещи, какие чудеса может он показать в этом зловонном сумраке, позади своего драного занавеса? Истинно говорю, я не осмеливался; и пусть причина моей робости вас заставит смеяться — признаюсь, что я побоялся его унизить. Наконец я решился положить мимоходом немного денег на одну из его досок; я надеялся, что он угадает мое намерение, вдруг неизвестно с чего нахлынувшая толпа людей унесла меня далеко от него.
И вот, возвращаясь оттуда, подавленный этим зрелищем, я все хотел разобраться в неожиданно испытанном страдании; и я подумал: «Это я видел прообраз старого литератора, пережившего то поколение, которое он так блистательно развлекал; прообраз старого поэта, без друзей, без семьи, без детей, который опустился от своей нищеты и от неблагодарности публики, к которому в его балаган забывчивая толпа не хочет больше ходить!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу