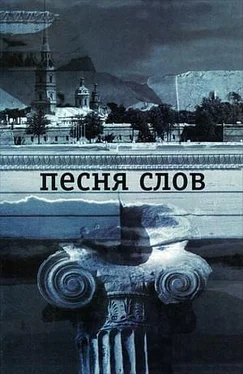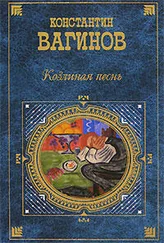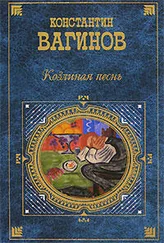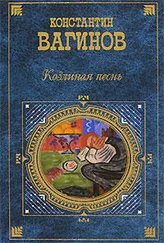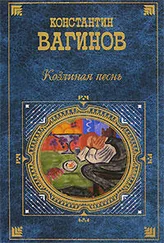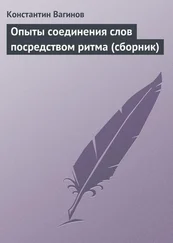Орфей (греч. миф.) – певец и музыкант, покорявший своим волшебным искусством не только людей, но также богов и природу. Миф об Орфее, в частности о его сошествии в Аид за Эвридикой, очень важен в вагиновском «личном эпосе» (ср. стих. «Эвридика» и др.). Здесь находится в связи с темой «не человека», впоследствии одной из главных тем поэзии Вагинова.
42. «ПОКРЫЛ, ПРИКРЫЛ И ВНОВЬ ПОКРЫЛ СОБОЮ…» – ПН. С. 31; ЗР. C. 75; СС. С. 50, с вариантом последней строки: Один останусь с птицей на ветру; ПН2. С. 35.
43. «ОПЯТЬ У ОКОН ЗОВ МАДАГАСКАРА…» – ПН. С. 32; У. С. 27; СС. С. 51, с вариантами: Огромной птицей солнце вдаль летит; Смешно и страшно нам без солнца жить; ПН2. С. 36.
"Зефир – в данном случае: папироса. Папиросы марки „Зефир“ пользовались популярностью еще до революции <���…>. Папиросы „Зефир“ наряду с пайковым хлебом как одну из примет городской жизни первых послереволюционных лет упоминает Вера Лурье в стихотворении „Петроград“ <���…> Продавец папирос – „зефирщик“ – характерный городской тип эпохи нэпа» (ПН2. С. 153).
Желтый – здесь в двойном значении: символическом, как цвет духа, и физиологическом, в ряду определений: «худой, больной…».
Имеется также автограф в архиве П. Н. Медведева: ОР РНБ. Ф. 474. Альб. 1. Л. 100, где знаки препинания – только в конце (запятые после хлопнул и худой), Зефир – с прописной буквы, в строке Как странен лет… вместо лет первоначально было зов (зачеркнуто). Протяжных – переделано из [нрзб].
44. «КАМИН ГОРИТ НА ПЛОЩАДИ ОГРОМНОЙ…» – ПН. С. 33; У. С. 25; СС. С. 52; ПН2. С. 37.
В «Ушкуйниках» (сборнике, который издал Н. Чуковский: историю этого издания, довольно забавную, можно прочитать в его воспоминаниях о Мандельштаме, в кн.: Чуковский Н. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 156–162) строфа, быть может из цензурных соображений, была заменена на следующую:
Крутись, сырая ночь, в ее глазах восточных:
Старик, старик, куда ее ведешь?
Луна, как червь, мой подоконник точит,
Ужели завтра снова запоешь?
Описанная в стихотворении пара может читаться и как Мария с Иосифом во время бегства в Египет, и как поэт (во многих стихотворениях проецирующий себя на образ старика) и его возлюбленная; ср.: Ты помнишь ли костры на площади огромной, / Где мы сидели долго в белизне ночной («В соленых жемчугах спокойно ходит море…»).
Приводя в сравнение строку «Ты помнишь ли костры на площади огромной…» («В соленых жемчугах спокойно ходит море.»), А. Л. Дмитренко пишет: «Указанная автоцитата позволяет в данном контексте интерпретировать камин как метафору костра. Возможно, эта метафора обязана своим возникновением разговору Александра Блока с молодыми петроградскими поэтами о литературном значении образа камина, который, если верить воспоминаниям Л. И. Борисова, состоялся в 1920 или 1921 году у костра на Исаакиевской площади в Петрограде <���…> „Кто-то – кажется Вагинов, – заметил, что камин даже и вовсе не огонь, – камин всего лишь материал для романсов… Впрочем, и то хорошо!“» (Борисов Л. За круглым столом прошлого: Воспоминания. Л., 1971. С. 19.) – ПН2. С. 154.
45. «ОДИН БРЕДУ СРЕДИ РОГОВ УРАЛА…» – ПН. С. 34; ЗР. С. 77; СС. С. 53; ПН2. С. 38.
Браслеты кораблей касались островов – темная метафора несколько проясняется, если сравнить ее со стих. «Как нежен запах твоих ладоней…»
46. «В НАГОРНЫХ ГОРНАХ ГУЛ И ГУЛ И ГРОМ…» – ПН. С. 37; О. С. 7; СС. С. 54; ПН2. С. 41.
Первая строка исправлена другими чернилами; было [На горных] горнах.
Этим стихотворением открывалась подборка стихотворений Вагинова в альманахе «Островитяне. I», уже не машинописном, а изданном типографским способом, тиражом 1000 экз. весной 1922 г., хотя датирован он декабрем 1921-го. В альманах вошли стихи Вагинова, Тихонова, Колбасьева. Первый номер стал единственным и последним. В рукописи ПН имеется переправленный вариант первой строки: «На горных горнах гул и гул и гром».
Мцхета – древний храм в Грузии. По предположению Т. Л. Никольской, во второй строке частичная анаграмма находящегося там собора Светицховели; упоминание Мцхеты может быть связано с личными впечатлениями во время путешествия по Кавказу в 1913 г. (см.: ПН2. С. 155).
Далее в рукописи следует стихотворение «Любовь опять томит, весенний запах нежен…», позже включенное автором в цикл «Финский берег» и публикуемое ниже в составе этого цикла.
47. «И УМЕР ОН НЕ ПРИ ЛУНЕ ЧЕРВОННОЙ…» – ПН. С. 39; О. С. 8; СС. С. 56; ПН2. С. 43.
Читать дальше