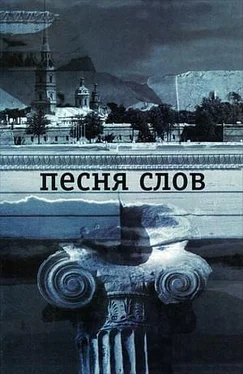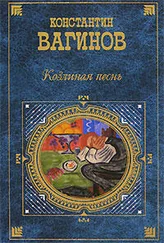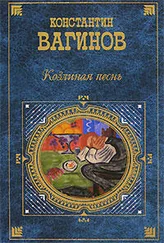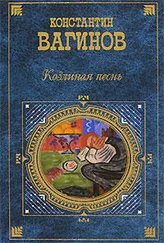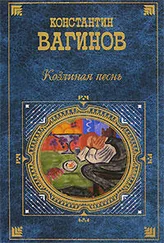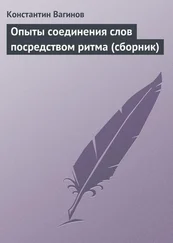И вдруг в этом же здании, за тем же столом, прозвучали строки:
Палец мой сияет звездой Вифлеема,
В нем раскинулся сад и ручей благовонный звенит…
Что это? Из какого сна, из каких видений?
Это был голос поэзии Вагинова. Но Мэтр не испугался, не возмутился, не отринул, он вошел в этот сад с интересом и удивлением.
<���…>
Вагинов был самый маленький, самый худенький, с самым слабым голосом, самый «не такой», но сразу выразителен и значим. Сидел далеко от Мэтра, в конце длинного стола, а когда вставал и начинал читать, – возникал новый мир, ни с кем и ни с чем не сравнимый и волнующий. Читал негромко, дикция была нечеткой из-за плохого состояния рта. Но все слушали и давали уводить себя в тот призрачный, пригрезившийся поэту мир.
Наш Мэтр – истый акмеист, чья поэзия была закована в стальные рамки формы, чьи строфы, строки, слова отщелкивались, как градинки о железный лист подоконника, он – наш Мэтр, с ясным, как небосклон, мировоззрением, с зеркальной эстетикой, – он замирал и, не противясь, входил в призрачный сад поэзии Константина Вагинова.
Все то, что было вне интересов искусства, Вагинов не замечал и – увы! не понимал.
Он был нумизмат, собирал старинные книги, изучал древние языки. Он бродил по толкучкам и выискивал старинные печатки, мундштуки, перстни с камеями, геммами, которые всегда украшали его тонкие, хрупкие смуглые пальцы. Он был беден, но вещи как бы сами шли к нему. Люди сразу душевно располагались к его тихому голосу, к доброте, постоянно живущей в его глубоких, больших, карих, совершенно бархатных глазах.
Иногда он бывал по-детски беспомощен. Однажды спросил меня умоляюще:
– Скажи мне, какая разница между ЦК и ВЦИКом? Нет, мне этого никогда не понять! – добавил он с отчаянием.
Город был пустынен и прекрасен. Ни прохожих, ни лошадей, ни машин. Петербург превратился в декорацию. Он стал архитектурным организмом в его первородном существе. И двое молодых людей – он и она – сливались с громадой дворцов и зданий, с торцовыми мостовыми, в которых пробивалась зелень травы, с гранитными оградами Невы. Они вдвоем – Костя Вагинов и Шура Федорова – просиживали белыми ночами до утра на ступенях набережной. Оба небольшие, одного роста, одетые во что-то неприметное.
– Сидят там на Стрелке, вокруг ни души, – сказал кто-то, входя в комнату, – издали посмотреть, ну просто два беспризорника, бездомника.
А они разговаривали, говорили, говорили… Он учил, рассказывал, вспоминал, фантазировал, дарил, дарил все волнующее, будоражащее душу поэта. И она, Шура Федорова, хотя была вся другая, из другого мира, как с другой планеты, все восприняла, впитала, осознала неожиданный ход его мыслей, его странное виденье. Она росла. И поднялась, и стала его музой, сестрой, советчицей, редактором. Она стала полноправной Вагиновой.
Если оглянуться и спросить, кого же дала русской литературе поэтическая студия 20-х годов при Доме искусств? Кого выдвинула «Звучащая раковина»? Ответ однозначен – Константина Вагинова.
Даже удивительно, что читающая публика не испугалась его непонятности, его фантастики, его многоплановости. И не только читатели, но и издатели, редакции. Дух свободного творчества всех увлекал в те времена.
Когда готовилась его книжка «Стихотворения» и требовались присмотр и забота самого автора, что Вагинову было недоступно, поэт Михаил Фроман пришел на помощь растерявшемуся собрату: все переговоры, хлопоты с издательством и типографией, консультации о бумаге, шрифте, обложке и с художником – все взял на себя. И когда книжка вышла в свет, автор надписал Фроману: «Дорогой Михаил Александрович, эта книжка до некоторой степени Ваше дитя. Детский дом (типография им. Ивана Федорова) одел, не без Ваших настойчивых указаний, ее в скромное платье. Вам даже снились сны по поводу ее первого выхода из Детдома. Примите ее от меня, как знак любви и дружбы. В. 8/Ш – 26 г.».
Три сборника интереснейших стихов успел выпустить Вагинов: «Путешествие в хаос», «Стихотворения», «Опыты соединения слов посредством ритма».
И вдруг – проза. Наблюдательная, ядовитая, с угадываемыми прототипами и событиями из жизни литературной среды.
Вагинов – прирожденный коллекционер; как драгоценный антиквариат, он собирал неповторимые человеческие индивидуумы. Было что-то в этом даже болезненное.
– Собирать, систематизировать можно все, и все интересно, – говорил он. – У меня будет в романе один, кто собирает свои срезанные ногти и хранит их. Странно, да? Безумец, да?
Читать дальше