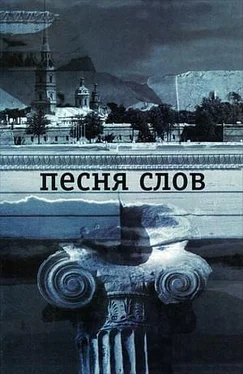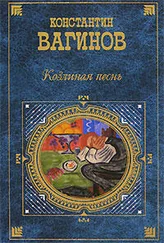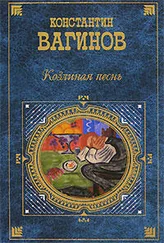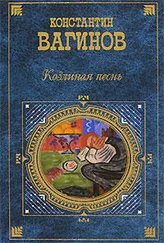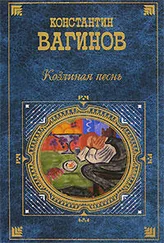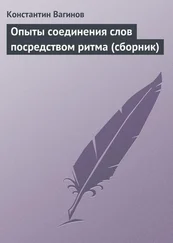Инн. Оксенов. Борьба за лирику
Инн. ОКСЕНОВ. Борьба за лирику. – Новый мир. 1933. Кн. 7–8. С. 401–402 .
<���…> Творчество Вагинова интересно тем, что поэт, внешне формально стремящийся к разрушению, смещению, даже пародированию старой поэтической культуры, на деле оказывается в прочном плену всех индивидуалистических понятий и представлений. «Переработка» классического наследства, которую пытается дать Вагинов, оказывается иллюзорной потому, что творческие позиции поэта внутренне порочны, они еще не выходят за пределы того круга, который поэт стремится разорвать. Оттого-то творчество Вагинова производит странное впечатление разъятого на части мира, мира обломков классики, расставленных, правда, в своеобразных сочетаниях и поворотах, но при этом торчащих и выпирающих своими острыми углами.
Новые стихи Вагинова не изменяют этого впечатления. <���…>
«Звукоподобие», т. е. созданное поэтом произведение, живет таинственной жизнью автомата, оживленного изваяния, переходящего «в разряд людей». <���…>
В этом сомнамбулическом стихотворении, в основу которого поставлен чисто гофмановский образ оживающего автомата, нетрудно вскрыть руководящую идею. Создание искусства живет своей самостоятельной жизнью, не зависящей от воли его автора, и выполняет свое назначение порою вопреки этой воле. С этой мыслью стихотворения можно было бы согласиться. Ведь в самом деле мы знаем исторические примеры подобной «независимости» литературных произведений от намерений и замыслов их авторов, – достаточно назвать хотя бы Гоголя или Бальзака, произведения которых по своей идейно-общественной ценности ВЫШЕ классового мировоззрения этих писателей. Все это так. Но, «когда два человека говорят одно и то же, это не одно и то же». В стихотворении Вагинова раскрытая нами мысль имеет иной оттенок, – она стремится к утверждению интуитивного характера искусства в старом, почти мистическом духе этих представлений. Отсюда неизбежно вытекающий вывод о безответственности поэта, не властного остановить или направить на другие пути развитие своих созданий. <���…> Тем самым зачеркивается роль сознательного контролирующего начала в работе поэта. Стоит ли говорить, насколько чужда и враждебна нам постановка этого вопроса.
Вагинов – талантливый поэт, однако носящий в себе те «трагические» или псевдотрагические «изломы», которые когда-то (уже очень давно) считались необходимым признаком одаренного поэта. Он до сих пор бродит в мире призраков и теней – старинных поэтических и ложнопоэтических «истин» и догматов. Надо как-то ему помочь найти выход из этого душного лабиринта, иначе все его – несомненно искренние – декларации о «перестройке» останутся одним только благим намерением. <���…>
С. Рудаков. Из писем к жене. Из очерка «Город Калинин»
С. РУДАКОВ. Из писем к жене. Из очерка «Город Калинин». – О. Э. Мандельштам в письмах С. Б. Рудакова к жене <���Л. С. Финкельштейн> (1935–1936). Вступ. ст. Е. А. Тоддеса и А. Г. Меца. Публ. и подг. текста Л. Н. Ивановой и А. Г. Меца. Комм. А. Г. Меца. Е. А. Тоддеса, О. А. Лекманова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома. 1993. СПб. 1997. С. 8–236.
2 апреля 1935
<���…> Линуся, спиши для нас (!) хотя бы немного Вагинова, что передаст тебе Ирина [31]. Пришли хоть 1–2 вещи. Еще – «Опыт соединения слов» – только без автографа <���…>
4 апреля 1935
<���…> Это первый раз в жизни (не считаю Кости Вагинова, с которым это тоже было немного), когда я по-настоящему чувствую себя с другим (с мужчиной). <���…>
Он <���Мандельштам> мне так напоминает минутами Костеньку, что боюсь за него. А здоровье очень плохо. <���…>
8 апреля 1935
<���…> Читал О<���сипу> Э<���мильевичу> Вагинова, он страшно протестовал против него, кроме последнего стихотворения (про ветер, снег и умиранье соловья) [32], которое ему чрезвычайно понравилось: «Вот это настоящие посмертные стихи».
10 апреля 1935
<���…> вечером вышел с ним грандиозный разговор о моих стихах. <���…> Он обо мне говорит с таким непониманием, как худшие читатели мира о нем самом. Единственная истинная истина, что 90 % моих вещей – о стихах и узком литературном круге ассоциаций. Это (и мы согласны) близит нас с Вагиновым. <���…>
12 апреля 1935
<���…> М<���андельштам> и Вагинов: приручился, уже жалеет, что мало (я тоже) <���…>
12 мая 1935
<���…> читали Вагинова. Он <���Мандельштам> злобствует, говорит, что это звукоПРЕподобие: на отдельные вещи восхищается. Хвалит прозу его. Но, в сущности, боится сам себя. История здесь астрономически та же, что со мной. Именно, – где он видит вещи, близкие к себе эпохи 1908–1925 годов – он лезет в бутылку. А похожим ему мерещится любое упоминание Петербурга (Петербурга в широком смысле, с целым пластом, ему присущим). «Разлагаться тоже надо уметь – небось, после Бодлера Вагинова не захочешь»…
Читать дальше