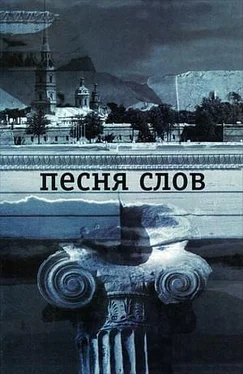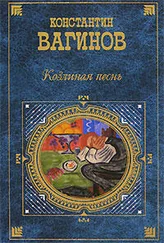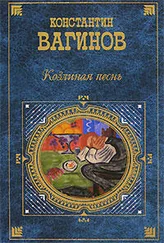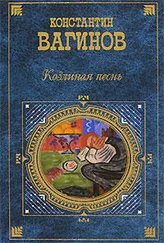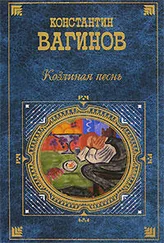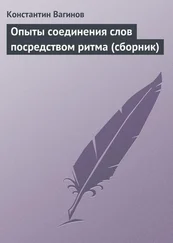Первым литературным объединением, в котором принял участие Вагинов, был союз четырех молодых поэтов (кроме него, туда входили упомянутый К. М. Маньковский и братья Б. В. и В. В. Смиренские) с юношески претенциозным названием «Аббатство гаеров», возможно, восходящим к названию французской литературно-художественной группы «Аббатство» [8] Существовало с 1906 г. по начало Первой мировой войны. В свою очередь, французские писатели назвались так в подражание Телемскому аббатству у Ф. Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль»). В «Аббатство» входили Ш. Вильдрак, Р. Аркос, А. Мерсеро, Ж. Дюамель, Ж. Ромен и др.
. Слово «гаер» позволяет предполагать, что название было предложено Вагиновым: именно для его стихов и особенно прозы характерен оттенок «гаерства» – шутовства, балансирования на лезвии иронии, в то время как в стихах Б. Смиренского и В. Смиренского (писавшего под псевдонимом Андрей Скорбный) этого оттенка нет [9] См.: Скорбный А. Звенящие слезы. Пб., 1921; Скорбный А. Больная любовь. Пб., 1922; Смиренский Б. Лунная струна. Пб., 1921; Смиренский Б. В лимонной гавани Иокогама. Пб., 1922. Стихи, впрочем, довольно слабые и несамостоятельные. О дальнейшей литературной судьбе братьев Смиренских см.: Краткая литературная энциклопедия. М., 1971. Т. 6. Стлб. 973–974.
.
Но «Аббатства» молодым братьям Смиренским показалось мало, и они затеяли «Кольцо поэтов имени К. М. Фофанова» – один из занятных эпизодов литературной жизни тех лет. «Кольцо» было образовано в марте 1921 г. при участии Константина Олимпова (сына К. М. Фофанова), в прошлом – соратника Игоря Северянина по эгофутуризму. Смиренские разработали устав, по которому от членов «Кольца» требовалось «влечение к высокому и непонятному», а также интерес к поэзии Фофанова, и разослали приглашения вступить в «Кольцо» множеству литераторов. Сохранилась стихотворная афиша, в которую вошли имена всех тех, кто ответил согласием на предложение вступить в «Кольцо», – этот любопытный документ эпохи можно прочесть в Приложении. Книги участников «Кольца поэтов» и К. М. Фофанова должны были издаваться на членские взносы. «Кольцо поэтов» просуществовало недолго, но успело издать несколько книг, в том числе книгу стихов Вагинова «Путешествие в хаос» (в количестве 450 экземпляров). Книжечка, открывавшаяся посвящением «Достохвальному аббатству Гаэров», была тоненькая, небольшого формата, так что «на ветру на улице» ее «нужно было крепко сжимать в пальцах, чтобы несколько талантливейших страничек не улетели, подобно крохотной птичке» [10] Борисов Л. Родители, наставники, поэты… Книга в моей жизни. М., 1967. С. 85.
.
«Путешествие в хаос» собственного сознания, смятенного внешними событиями и взорванного опьяняющими веществами изнутри, – это книжка местами еще ученическая, но уже характерно вагиновская. «Стихи его бред, конечно, но какой заставляющий себя слушать бред! – писал Вс. Рождественский. – Хорошей болезнью встряхнуло Вагинова – он потерял чувство обычного пространства и обычного времени. Широко раскрытыми глазами смотрит <���он> на райские леса, которыми зарастают городские площади, и в трамвайном лязганье слышит колокольчики кочевого Багдада. <���…>
В наше культурное время большая роскошь оступиться на гладкой дороге. Ошибки Вагинова приятны. <���…> „Увидеть по-новому“ самая дорогая возможность для поэта» [11] Рождественский Вс. <���Рец. на:> Островитяне: Альманах стихов // Книга и революция. 1922. № 7 (19). С. 63.
.
Не один Вс. Рождественский приветствовал появление новой фигуры на поэтическом горизонте Петрограда. Доброжелательно отозвались на вагиновский дебют И. Груздев, О. Тизенгаузен, Г. Адамович. Сам Вагинов, однако, был недоволен, скупал нераспроданные экземпляры, исправлял и дописывал и только после этого дарил друзьям [12] См.: Никольская Т. Цит. соч. // ЧТЧ. С. 72.
. Экземпляр же, подаренный Александре Ивановне, по ее рассказу, сжег и сказал: «Это плохие стихи». Впрочем, эта привычка – исправлять уже напечатанную книгу – сохранилась у него и позже: так, в РО ИРЛИ хранится переделанный таким образом экземпляр романа «Козлиная песнь».
Вторую часть «Путешествия в хаос» составил цикл «Острова», датированный довольно невероятно и, возможно, даже с вызовом – 1919 г. Автор в это время, судя по всему, «кормил вшей» да таскал на себе раненых в товарные вагоны, стихи же, болезненно-изысканные, с легким оттенком пародии, зовут: «О, удалимся на острова Вырождений…» Позднее образ острова, островов станет у Вагинова одним из сквозных – будь то остров Петербург в стране Гипербореев («От берегов на берег…», 1926) или же остров Цирцеи, на котором поэт-Одиссей спасается от моря социологии («Козлиная песнь»). И громить его и его друзей будут как «островитян искусства» [13] Таково название статьи А. Селивановского с критикой творчества Вагинова (Селивановский А. В литературных боях. М., 1930).
, бежавших на свой эстетский остров от нужд «реальной жизни». Словом, далеко не случайно следующее поэтическое содружество, в которое вступил Вагинов, носило название «Островитяне». Кроме него, туда входили Н. Тихонов, С. Колбасьев, П. Волков, а также две наиболее интересные участницы «Звучащей раковины» – Ф. Наппельбаум и В. Лурье. Осенью 1921 года были подготовлены два машинописных поэтических сборника. Первый, датированный сентябрем, сохранился в нескольких экземплярах, что касается второго, то ни один его экземпляр не обнаружен. Весной 1922 г. вышел типографский альманах «Островитяне I» со стихами Вагинова, Тихонова и Колбасьева, датированный декабрем 1921-го. «Был подготовлен к печати, но не вышел в свет альманах „Островитяне II“, который должен был появиться в феврале 1922 года, – пишет А. Л. Дмитренко. – В него предполагалось включить стихи Н. Берберовой, К. Вагинова, П. Волкова, С. Колбасьева, Вс. Рождественского, Н. Тихонова и М. Цветаевой. Неудачей обернулись попытки издать книгу Вагинова „Петербургские ночи“ (1922). Помещенный в ее наборной рукописи анонс позволяет предположить, что островитяне заручились поддержкой Д. И. Выгодского, располагавшего полиграфической базой в Гомеле. Очевидно, воплощению этих планов помешали финансовые и технические трудности» [14] Дмитренко А. К истории содружества поэтов «Островитяне» (Машинописный альманах) // Русская литература. 1995. № 3. С. 209–224. Публикуя один из двух сохранившихся экземпляров этого первого альманаха, находящийся в его собрании, исследователь подробно описывает его оформление и историю возникновения.
. Кроме издательской деятельности, участники группы проводили публичные чтения, в основном на частных квартирах.
Читать дальше