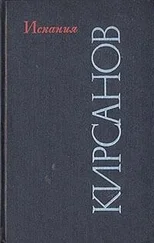В бурсе, за это б трудилась лоза,
взяли б студента в розги,
а в Комакадемии все волоса
рвал бы с себя Покровский…
ИСТОРИЯ ПИСЬМЕННОСТИ
Де-Ваб.
«…известна легенда, будто
жил великий писатель Вапп,
но этот вопрос запутан,
так как, как ни старались мы –
От Ваппа остались: „Война и мир“,
и „Слово о полку Игореве“…»
И только среди людей и дат,
живших в веках когда-то –
всегда, навеки одна и та,
навек нерушимая дата,
и долго седины земли серебря,
ею нам осеняться:
25 октября,
1917 г.
Историки, сжатые в книжный плен,
путают forum и plenum,
но имя одно не тронул тлен
и вечно живет нетленным.
Июнь. 1928
3
Хуже чем боль, чем смерть, чем декофт.
О, как тоска наверчена!
В «Комсомольскую правду» ни сдать стихов,
ни поужинать в «Доме Герцена»!
Я от тоски превратился в тень.
Мне – хоть бумаги десть!
Писал бы по тысяче строчек в день,
да некому их прочесть.
Блестит земля, стеклянный лоск
улицами стекает.
С жизнью искусство уже слилось –
все говорят стихами.
Хочется слова простого, но
где-то увязло и спит оно.
Где ты, о, Коган? Приди, начинай!
как прежде, круглые сутки,
читай, прошу, в тишине ночной
доклад «Гораций и Уткин»!
Память о нем – до-красна горит
и сердце лекцию просит!
Где Луначарский? Пускай говорит
о Гельцер и Наркомпросе!
Нет великих! Вернуть нельзя.
Речи великих стихли.
Но сохраняет Колонный зал
древних речей пластинки.
Колонною стражею загнанный вглубь,
в молчаньи громовом –
на камышевом стебле, в углу
цветет голубой граммофон.
Солнечные системы пластинок
на этажерках стынут.
Лестничкой лезу на высоту,
взял одну и приладил.
И закружился черный сатурн
на тонкой иглы
брильянте:
Белей снег гор ли
марли у горл
орлы гор мерли
о вери май герл.
Из гор май вырван
ирландец запел,
ирландия ирлэнд
ты пери и перл.
Мы банк в бок дули
летели в галоп,
и пинг понг пули
спикеру в лоб.
О том, Том Джони, быть вам в Чоне,
том, том рооо
ты наш нач бриттен, а мне быть вридом,
ври там рооо.
Кружится пластинка, шуршит, шуршит,
тихим спешит фокстротом.
Звон фортепьяный, хрипок и шип,
и я до глубин растроган.
Взял другую, она залегла
в шуршащий, странный всхлип.
И вдруг застряла в звон игла.
Слышу:
Вы ушли,
как говорится,
в мир иной!..
Владмир Владимыч!
Сколько лет!
(что кирпичей в мажанге),
а впрочем, только
в феврале
за чаем на Таганке.
Вы дамы ждете
к королю,
на стуле
храп бульдога.
– Володя, хочешь
тюрлю-лю,
конечно,
если много!
А Лиля Юрьевна:
– Зачем?
– Чтобы на всех
хватило.
На Гендриковском,
между тем,
в снегу
хрипит квартира,
В морозах топчется Москва,
Замоскворечье,
ругань…
Звонок.
Пружиня на носках
и потирая руки,
вошел Асеев:
– Драсси, драссссь…
И сел у самовара.
С мажонгом,
Родченкой,
борясь,
в сенях стоит
Варвара.
И как в кают-компании,
в морозный
снежный шторм –
свистит Москва
кабанья
в щелях
сосновых штор.
Москва
в шевре и юфти,
бредут,
молчат,
поют…
– Где Ося?
– Спит в каюте,
в одной
из трех кают…
Бредет мороз
по Трубной,
небо Москвы
в рядне.
Кончается!
Не трудно
сделать жизнь
значительно трудней…
Колонный зал,
как был,
и мертв,
и глуховат,
как прежде.
Москва –
огромный натюрморт,
в морщинах
древних трещин.
Музей –
где жить –
не продохнуть,
где все углы
в таблицах,
а рупор тянется
к окну
и шорохом
теплится!
Читать дальше