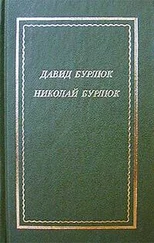Сологуб со мной не согласился: он не согласился с моим положением, что писателю надо, как и каждому в своем деле, всецело специализироваться, что писателю заниматься политикой «дилетантствуя» вредно, как для последней, так и для самого творца, ибо это мешает всецело погрузиться в задачи художества…
После этого мы пришли в зал, с мебелью из светлого клена. Ныне покойный Кульбин нарисовал углем Ф. К. Сологуба, а я сделал карандашом этюд с Чеботаревской; ее глаза, не знаю почему, во время рисования, казались мне глазами молодого турка. Я сказал ей об этом; чета Сологубов острила и смеялась.
Мы прощались, Федор Кузьмич вышел из кабинета, неся последнюю книжку своих «военных стихов»; на ней была надпись:
«Давиду Давидовичу с дружеским приветом от автора».
Улица была покрыта мягким слоем нового снега; фонари бодрствовали; пешеходов почти не было. Идя мимо запоздавшей витрины, я открыл книжку:
Только лишь весна откроет
Ложе влажное долин,
Будет нашими войсками
Взят заносчивый Берлин.
Это было, как все теперь знаем, неверным, дурным пророчеством.
Илья Ефимович Репин
В феврале месяце 1915 года я был приглашен Николаем Николаевичем Евреиновым написать его портрет. Так как Евреинов жил в Куоккале, в Петроград являлся наездами, то он и предложил мне жить все время, необходимое для написания портрета, у него.
Вася Каменский – с ним в те годы я был неразлучен – повез меня к Евреинову. Через три дня по прибытии к Куоккалу состоялся наш визит к великому художнику.
В это утро я и Каменский написали по стихотворению в честь автора «Бурлаков» и «Запорожцев, пишущих письмо султану».
Так как в то время мы, футуристы, были в «моде», то где бы ни появлялись, нас начинали просить прочесть что-нибудь. Вполне понятно, что за столом у Репина надо было читать не случайное, поэтому мы сочли на сей раз необходимым подготовиться.
Дома обедали слегка, так как впереди предвиделся, хотя и с «сеном», но все же обед. Это было, как я восстановил позже по надписи на рисунке, сделанном у Репина, 18 февраля.
День был морозный, пасмурный; дача Репина расположена в верстах двух от дачи, где жил Евреинов. Дорога среди облизанных февральским ветром сугробов – коими скрыты небольшие елочки, а заборы местами занесены до половины.
На серых от финляндской мокрети досках зимневетер мотает остатки летних афиш. Ветер читает подобно маленьким детям, книга ли это, забытая на скамье, афиша ли – ветер неустанно треплет бумажный лист, шуршит им, и от такого чтения в конце концов остается не роман, а лишь несколько глав (тех, что понравились ветру?), а от крупно напечатанных слов – несколько букв: и если не видел целой афиши, то иногда получается интересная загадка. Так и теперь на сером заборе клок выцветшей, причудливой формы бумаги
— — — — — —верова
Се — — — — —
питание…
Нормальное
Ни года, ни числа или не было, или не удержалось в моей памяти, но я по газетам знал о лекциях Северовой-Нордман касательно новейших способов питания, именно о знаменитом «сене».
По газетам я также знал, что она умерла, и я шел и думал о человеке, может быть любившем ее, которому приходится в продолжение многих дней ходить теперь мимо этих заборов и видеть, как уже не люди, а только один ветер читает мысли когда-то живой, и как в прилежном чтении своем слово за словом стирает время-ветер прошлую жизнь.
Было три часа дня, когда Каменский и я прошли большой двор, в глубине которого стоял дом Репина, называемый «Пенатами».
Прекрасные окна, большие медные ручки, сени и галерея со всевозможными причудами финской архитектуры, и при входе надписи, рекомендующие самостоятельность:
«Не ждите прислуги»,
«Ее нет»,
«Все делайте сами»,
«Дверь не заперта» и т. д.
В круглом вестибюле, полном широколиственных растений, надпись:
«Ударяйте в гонг, входите и раздевайтесь в передней».
Мы ударили в гонг, отворили дверь и прочитали другой плакат:
«Идите прямо».
Но поперек порога лежала большая собака, насчет собаки не было никакого плаката; на нежные клички и наши посвистывания чудовище, упорно загораживая дверь во внутренние комнаты, щерило зубы, ерошило спину и, наконец, потеряв собачье терпение (человечье нами утеряно было значительно раньше), разразилось громогласным негодующим лаем. На этот лай появилась дочь Репина и провела нас в большую комнату, где находились уже несколько «приехавших на прием» к Репину.
Читать дальше