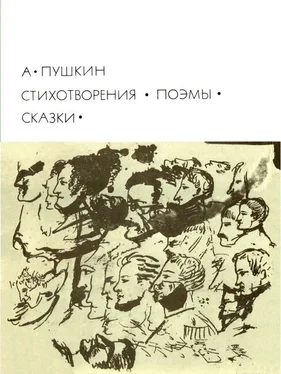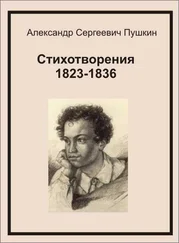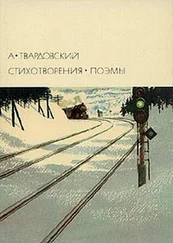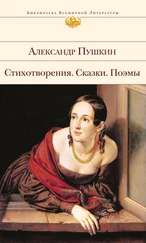И в этих произведениях не могли не отозваться те резкие изменения, которые произошли в общественно-политической обстановке страны после декабрьской катастрофы. Но лирика Пушкина никак не утрачивает своей вольнолюбивой сущности. В послании в Сибирь поэт стремится вдохнуть «бодрость и веселье» в сердца своих братьев, друзей, товарищей не только надеждой на то, что «темницы рухнут», но и утверждением великого исторического значения их дела: «Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье». В стихотворении «Арион», написанном в связи с первой годовщиной казни декабристов, Пушкин в форме прозрачной аллегории не только объявляет себя литературным соучастником — певцом — декабристов («Пловцам я пел»), но и подчеркивает свою верность общим с ними чаяниям и идеалам («Я гимны прежние пою»). Примерно через полтора года после «Ариона» создается одно из самых значительных и по существу своему глубоко гражданских стихотворений Пушкина «Анчар», в котором, как бы развивая слова Радищева о «зверообразном самовластии», «когда человек повелевает человеком», поэт с исключительной силой раскрывает бесчеловечный — обесчеловечивающий и раба и владыку — характер таких социальных отношений, которые основаны на рабстве и угнетении.
Прямое — и для того времени бесспорно прогрессивное — общественно-политическое значение имело настойчивое обращение Пушкина в эти годы к образу и теме Петра I. Именно этот образ возникает почти сразу же после возвращения поэта из ссылки в «Стансах» («В надежде славы и добра…»). Это было первое в новых условиях литературно-политическое выступление Пушкина, в котором дается своеобразный «наказ» новому царю и одновременно определена новая позиция поэта. Ввиду принципиальной важности этого произведения, неверно понятого многими современниками как измена Пушкина своим прежним убеждениям, следует остановиться на нем подробно.
Молодой Пушкин был воспитан на идеях философов-просветителей XVIII века, считавших, что преобразование общества может быть достигнуто в результате деятельности «просвещенного монарха», который, обладая громадными возможностями, вытекающими из его верховной власти, вполне способен такое преобразование осуществить. Именно в связи с этим особое внимание просветителей — и на Западе и у нас — привлекала к себе личность и деятельность царя-преобразователя Петра I, являвшегося как бы наглядным историческим подтверждением правильности и осуществимости их политической концепции. Просветительская концепция, мы видели, отразилась и в ранних «вольных» стихах Пушкина. Позднее, в период южной ссылки, Пушкин отошел от нее, делая ставку не на монархов, а на борющиеся с ними «народы». Но уже тогда, как было сказано, у него стали возникать сомнения в эффективности такого пути. Трагическая неудача освободительного движения декабристов утвердила его в этих сомнениях. В записке «О народном воспитании», которую в качестве своего рода экзамена на политическую благонадежность Николай I поручил написать Пушкину почти сразу же после возвращения его из ссылки (экзамена, который поэт не выдержал: записка совершенно не удовлетворила царя), он достаточно точно сформулировал свое понимание «трагедии» декабризма. Она заключалась, по его словам, в «ничтожности замыслов и средств», то есть в малочисленности участников движения, в отсутствии в нем народа, по сравнению с «необъятной силой правительства».
И мысль Пушкина снова обратилась к пути, указанному философами-просветителями. В облике Николая I, в манере его обращения с поэтом, в либеральных политических посулах Пушкину почудилось сходство с Петром I, как почудилось оно и некоторым декабристам. Направить «необъятную силу» царя в прогрессивном направлении, всячески укреплять его в намерении идти по пути обещанных им преобразований, подчеркивая «семейное сходство» с его «пращуром», ставя ему в пример личность и деятельность Петра, — в этом и заключается как пафос «Стансов», так и непосредственная побудительная причина возникновения у Пушкина петровской темы, которая становится одной из основных тем его последекабрьского творчества. В то же время стихотворение не заключало в себе ничего «верноподданнического». Дать понять, что начало николаевского царствования «мрачили» не только «мятежи», но и «казни», значило выразить гласное осуждение казни декабристов. Но Пушкин этим не ограничивается. Призыв к Николаю быть «незлобным памятью», заключающий собой «Стансы», был не менее смелым призывом «милости к падшим», то есть сосланным на каторгу декабристам, — мотив, который будет отныне все снова и снова звучать в различных произведениях Пушкина и который сам поэт в стихах о «памятнике нерукотворном» назовет в числе своих основных прав на благодарную память народа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу