…Никитские ворота.
Я вышел к ним, медлительный прохожий.
Ломило обмороженные ноги,
И до обеда было далеко.
И вижу вдруг: в февральскую лазурь
Возносится осеребренный купол,
И тонкая как нитка балюстрада
Овалом узким ограждает крест.
И понял я: мне уходить нельзя
И некуда уйти от этой церкви;
Я разгадаю здесь то, что томило,
Невыразимо нежило меня.
Здесь я забвенный разгадаю сон,
Что мальчиком я многократно видел:
Простые линии в лазури, церковь,
И радость, и предчувствие беды.
И я стоял. И солнце отклонилось.
Газетчик на углу ларек свой запер, —
А тайна непрестанно наплывала
И отлетала снова… А потом
Все это рассказал я другу. Он же
В ответ: А знаешь, в этой самой церкви
Венчался Пушкин. — Тут лишь понял я,
Что значила тех линий простота,
И свет, и крест, и тихое томленье,
И радость, и предчувствие беды.
1919.
Наталья Пушкина! Наташа Гончарова!
Ты звонкой девочкой вбежала в дом чужой,
Где грянула в паркет Петровская подкова,
И Командор ступал гранитною стопой.
Где обаянием неизъяснимой власти
Тебя опутала стихов тугая нить,
Где хлынул на тебя самум арабской страсти
И приневоливал его огонь делить.
Как часто полночью в уюте русской спальной
Ладонь прохладная касалась глаз твоих,
И ты, впросонках вся, внимала песне дальной
О бедном рыцаре в просторах стран чужих.
Головка бедная! Мадонна снеговая!
Шесть лет плененная в святилище камен.
Кто укорит тебя, что молодость живая
Твоя не вынесла любви державной плен?
Пускай разорвана священная завеса,
И ринулись в певца из потрясенной мглы
Мазурки шпорный звон, и тонкий ус Дантеса,
И Кухенрейтера граненные стволы.
Пусть пуля жадная и дымный снег кровавый
У роковых весов склонили острие,
Пускай лишились мы России лучшей славы, —
Морошки блюдечко — прощение твое!
Наташа милая! Ты радость и страданье.
Ты терн трагический меж пьяных роз венца,
И создано тобой чудесное преданье
О гордой гибели негордого певца.
1921.
Я посетил величественный город,
Подземную безмолвную столицу,
Где каждый дом украшен мавзолеем,
А мавзолей отягощен крестом.
Я проходил по мягкой меди листьев,
Влеклись глаза вдоль твердых барельефов,
И тлела мысль теплом и ломкой болью,
Священные встречая имена.
Но проходил, не замедляя шага.
Меня манил неогражденный камень,
Где иссечен великолепный профиль
Дорически-прекрасного певца.
О, чистота всесовершенных линий,
Напрягшихся в певучем равновесьи,
О, ясная и умная прохлада
В Финляндии зачатых Пропилей!
О счастьи скорбь, томление о Музе,
И мысли боль, и отягченный якорь,
Что подняли марсельские матросы, —
Все в ясности отпечатлелось тут.
1917.
Из мягких рвов туманом возникая,
Поднялся вечер млечно-голубой.
Прибой примолк, и в ясной тишине
Отчетлив выклик запоздалой чайки.
Округлым выступом старинный вал
Надвинулся на впалую долину,
Некошенной отросшею травою
Играя с мимолетным ветерком.
Я расстилаю парусинный плащ, —
И так отрадно повалиться навзничь.
Руками распростертыми касаясь
Слегка овлажненной травы.
Суворовская спит Фанагория…
Ключ к отдаленным, к вольным океанам…
Последние оржавевшие пушки
Валяются у церкви в городке.
И только я сейчас припоминаю
Стремленья, что давно перегорели, —
И предо мною тихо возникает
Певец заброшенной Тамани.
И облака, что убежали к югу
На миг слагаются в печальный профиль,
И млеет нежным отдаленным звоном
Коротенькое имя: Бэла…
1918.
Он откомандовал. В алмазные ножны
Победоносная упряталася шпага.
Довольно! Тридцать лет тяжелый плуг войны
Как вол упорная влекла его отвага.
Пора и отдохнуть. Дорогу молодым.
Немало думано, и свершено немало.
Чечня и Дагестан еще дрожат пред ним,
«Ермоловъ» выбито на крутизнах Дарьяла.
И те же восемь букв летучею хвалой
В Кавказском Пленнике сам Пушкин осеняет.
Чего еще? Теперь Ермолов пьет покой,
В уединении Ермолов отдыхает.
Читать дальше
![Георгий Шенгели Раковина [сборник стихов] обложка книги](/books/393774/georgij-shengeli-rakovina-sbornik-stihov-cover.webp)

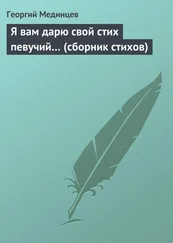


![Георгий Шенгели - Изразец [сборник стихов]](/books/393775/georgij-shengeli-izrazec-sbornik-stihov-thumb.webp)






