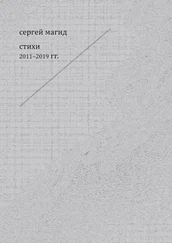II.
Там озеро лежало без движенья
и сверху я заметил в глубине
летящее косое отраженье,
знакомым показавшееся мне,
я поднял голову и обомлел, раскаясь,
что весь открыт и сам, как на беду, —
а он, ногами леса не касаясь,
уже оглядывался на лету
и медленно кивнул, – и сразу темень
пошла валиться вниз, седлая лес,
навстречу ей, затрепетав, поочередно зелень,
воздух, всё потянулось, чернея, было без
четверти десять, холодом подсвечен,
вылез луны скуластый круг.
Я оглянулся: вечер
уже не выпускал меня из рук.
III.
Ладно, я вытер лоб пилоткой
и на траву исподнее сложил,
еще чуток пересидел за лодкой,
и втихаря знаменье сотворил,
щепотью обведя, хотя б снаружи,
лоб, плечи, пуп, – и в омут, с головой,
и вынырнул, – порядочно от суши,
вернее от одной её шестой,
где всё сбылось, но как-то так, печально,
всё шло путем, но задом наперед,
а ночь вверху была так изначальна
как подо мною толща этих вод,
где я лежал на туговатой глади,
над пропастью раскинувшись крестом,
и мучился опять, – чего же ради
мы эти сани чёртовы везём?
IV.
Тут что-то ёкнуло и сосны зашумели,
рябь искоса по озеру прошла,
задвигались и зашептались ели
и мысль из головы моей ушла,
мне стало страшно. Тёмное сгустилось.
Ни ветерка, ни всплеска, ни волны.
Я был один. Как сердце колотилось,
когда я выбирался из воды,
подпрыгивал, не попадал в штанину,
как трясся я, как путал сапоги!
А главное, не понимал причину
своей боязни, что за пироги
со мной творятся, превратив в идиота, —
и липкий пот мне спину заливал,
пока в слезах я не облобызал
родной тюрьмы знакомые ворота.
1979
С тяжёлым скрипом подались ворота,
я корпус повернул в пол-оборота
и навсегда окаменела рота,
оставшись на полуденном плацу.
Я не искал с напарниками встречи,
свобода мне обрушилась на плечи
и мимику рождающейся речи
я примерял к открытому лицу.
Тогда весна переходила в лето,
была суббота солнцем разогрета
и над рекой несло от парапета
жарой как в пору ядерной войны.
Вот тут я Бонапартом въехал в город,
но отдохнув, отечественный холод
уже во вторник взял меня за ворот
как имярека у Березины.
Пошли дожди, поехала гражданка,
я спать не мог, я видел фигу танка,
которую показывал полгода
девице с человеческим лицом.
Тоска меня калошами месила,
какой-то дрянью душу заносило
да и снаружи портилась погода,
всё больше отдавая говнецом.
А кореша, – те были милосердны,
меня пытались вылечить от скверны,
мы открывали рыбные консервы
и за бутылкой коротали ночь,
но от хандры почти неотличима,
моя болезнь была неизлечима,
и промычав «ну, бля, и дурачина»,
они под утро сваливали прочь.
Всю осень я шатался по каналам,
крутил ночами одинокий слалом
по переулкам, улицам, вокзалам
и в крепости отсчитывал часы.
Петра и Павла тихая обитель
из темноты, как молчаливый зритель,
глядела в мир и однокрылый мститель
над городом протягивал весы.
Вонзался шпиль в клубящееся небо
и те, кто был, и те, кто больше не был,
разламывались ангелом как хлебы
в единой миске будущего дня.
С весовщиком мы взвешивали строго
добро и зло и тщетно у порога
вопила Родина, – казённая дорога
ждала её и вместе с ней меня.
И, кажется, один из целой роты,
судьбу не матеря за повороты
от всех ворот, я в чистые пустоты
от гимна и до гимна выпадал,
строгал строку, не жаждал воскресенья,
но за простое слово утешенья
весь антураж Господнего творенья
готов был обменять.
Никто не брал.
1979
I.
а.
Нас очень редко посещает ясность.
Гораздо чаще низкая кислотность
нам помогает сохранить беспечность
под колесом катящейся судьбы.
Есть времени обманчивая плотность, —
мы думаем, что в этом безопасность
и равнодушно смотрим в бесконечность,
а до нее – лишь высота трубы.
б.
Нам часто изменяет угол зренья.
Мы слишком полагаемся на знанье,
уверены, что за июлем знойным
нас непременно подберёт зима.
Цыгане исповедуют гаданье,
индусы ожидают превращенья,
и только мы единственно достойным
считаем блеск всесильного ума.
в.
Но лето может кончиться в июне
и в небо улетучатся нейроны
и воплотятся в Иоканаана,
почившего Господнего раба…
…так я сквозь пограничные препоны
уйду к чертям на финикийской шхуне
и окажусь на почве Ханаана,
где так земля ничейная груба…
г.
Пыль, пыль и ветер, пыль и синеватый
осколок моря, скалами нагретый,
и берег, сыновьями позабытый,
песок и пыль, обломки и песок.
Коричневый, тугой, шероховатый
путь в глубину, повозками разбитый, —
и берегом, как в финскую одетый,
идёт отец, не подымая ног.
д.
На северном планетном полукружье
жизнь мёртвую и жизнь ещё живую
и всё, что есть, и всё, что было прежде,
сейчас и здесь мы в памяти несём, —
а встретимся на дальнем побережье.
Нам просто надо быть во всеоружье
и принимать окраину чужую
как собственный и неизбежный дом.
е.
Мы уплываем, тёмную завесу
приподнимая: острая заноза
сидит в мозгу обозначеньем мыса,
где я, как остров, обрываюсь в смерть.
Конечно, я секу весь бред вопроса:
ведь в грядке даже зёрнышко маиса
растёт всё по тому же интересу, —
продраться вверх, побыть и помереть.
ё.
Так мы живём, природе подчиняясь,
на Мировой Закон ее надеясь
и продолжая бесконечный путь.
И лишь порой, о Бога спотыкаясь…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу