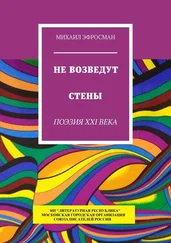«В первом чтении все сходит с рук…»
В первом чтении все сходит с рук:
Опечатки, пробелы, помарки.
А почтмейстер небесный, скрывая испуг,
Гасит дни, как почтовые марки.
«Это – город мой щербатый…»
Это – город мой щербатый,
Часто пьяный в лоскуты.
Тут и статуя с лопатой,
И невеста без фаты.
Всех транзитов перекресток.
Вот с гитарою подросток,
И без трости кавалер.
Прямиком через разбитый,
Как балкон плющом увитый,
Неплодоносящий сквер.
Это город мой субтильный,
Обихоженный посильно.
И, наверно, оттого
Угощает впрок конфеткой,
Опекает медной сеткой,
Не прощает ничего.
Никакой я не ученый,
И, отнюдь, не увлеченный.
Просто верченый, крученый
Вечным комплексом стыда.
Никакая не изнанка.
Просто для окурков банка,
Жестяная, на клеенке,
На виду и навсегда.
Мне жалко себя,
Уходящего в сумрак аллеи.
Вот-вот и я точкой невидимой стану,
Невидимой точкой,
Почти незаметной для глаза.
Тут больше меня не увидят ни разу,
Не вспомнят.
Как шел человек по аллее,
И сумрака обруч его сделал точкой,
Малюсенькой точкой,
Почти незаметной для глаза.
Жалею себя.
Снежок я апрельский жалею.
Он снегом не станет
Нигде и ни разу.
«Ах, как много людей непривычных…»
Ах, как много людей непривычных
Среди серых ландшафтов столичных,
Среди наших толкований и смут
И молчания долгого пут.
Их не меньше среди разговоров,
Монологов и скучных бесед.
Словно в самом конце коридора
Прорастает тихонечко свет.
Прохожий на углу
Вдруг попросил огня.
Зачем-то пояснил:
«Сломалась зажигалка».
Заемного огня
Найдется у меня.
Заемного огня
Ни для кого не жалко.
«Дитя коммунальных строений…»
Дитя коммунальных строений,
На десять соседей всего.
Арбата вчерашнего тени
Ей явятся из ничего.
В Калошин свернет переулок, —
Два дома и неба просвет —
Подумает: «Вот закоулок».
Подумает: «Лучшего нет».
Тут день бесконечно тянулся,
Похожий на явь и на сон.
Какой человек приглянулся,
И платья весенний фасон.
Витрина, как зеркало светит,
Вдоль легкий скользит силуэт.
Дождь в темную крапинку метит
Асфальтовый грубый паркет.
На десять семей квартира,
В четыре конфорки быт,
Но были у этого мира
И счастье, и пафос, и стыд.
«Утром птичка-невеличка…»
Утром птичка-невеличка
Постучалась вдруг в окно.
И отдернула жиличка
На окошке полотно.
«Здравствуй, птичка-невеличка,
Добрый друг и добрый знак!» —
Так подумала жиличка,
Загадала она так.
Той жиличке невезучей
Очень кстати был как раз
Этот драгоценный случай
В этот одинокий час.
«Все завершается началом…»
Все завершается началом,
Обратным повтореньем линий.
Так в снеге грязновато-талом
Чудесный умирает иней.
Так старятся и доживают.
Подчас угрюмо, безотрадно.
И этим, словно уступают
Другим, печально и нескладно.
Все завершается началом —
Истоком новых поколений.
И вечно в обреченном, талом
Сияет чей-то юный гений.
И были сказаны слова,
И было вымолвлено нечто,
Но а теперь – все трын-трава,
Все трын-трава ему, конечно.
Куда неведомо вагон
Везет его под оным градом.
И видит он, наверно, сон
О том, что нам и знать не надо.
Этот легонький возок,
Как пушинка на дороге.
А точнее над дорогой.
Так разбег его высок.
Но не страшен потому,
Что стремительные оси,
Не увозят, а уносят
В даль, невидную уму.
«Не в дозоре, не на “стреме”…»
Не в дозоре, не на «стреме»
В пионерском лишь строю.
Настоялся, выстоял, втянулся.
Оглянулся: строя нет,
Горн играет менуэт.
Я с утра с ханыгами трою.
Бывший пионервожатый
Наливает мне портвейн,
Бывший «опер», сильно датый,
Говорит про реку Рейн.
Про несметные запасы ихних руд,
И о том, что он нам брат теперь —
Не Брут.
Я, конечно, верю дяде.
Сомневаться – чего ради?
Строй рассыпался,
Горнист трубит отбой.
Читать дальше
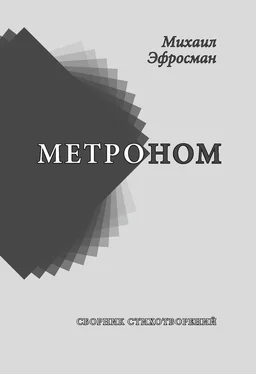


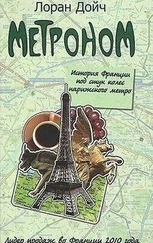



![Владимир Андриенко - Сотрудник Абвера - «Вдова». Метроном смерти. Бомба для генерала [litres самиздат]](/books/437375/vladimir-andrienko-sotrudnik-abvera-vdova-metr-thumb.webp)