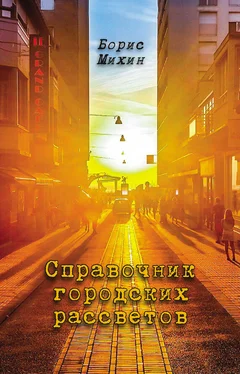А потом, теряя паспорт,
возродиться утром, на…
Черт возьми, эх, ширина
впереди! И не напрасно
серебрила ночь струна,
гитарист – спаситель, пастор.
Обособлённый от забот,
сознательно старался дворик
остаться в памяти с тобой
и выбитой доской в заборе,
да как-то всех не удержать.
От переполненности места
чел зарабатывает жар,
пытаясь увеличить смету,
и неизобретённый диск
хранения воспоминаний
людей тревожит, как садист.
А дворик чистил утром ранним
по-прежнему свою листву,
старательно не замечая
испорченный дождями стул,
в окне старушек с чаем, чаек,
в нём оставалось всё таким,
каким когда-то.
Только даты
не совпадали. Потолки
повыше разве.
Мозг податлив
и что угодно уместит
в неправду. Даже личный имидж
непринуждённо не простит
чужим, особенно с чужими.
Стареющие толстяки —
обидный бренд, куда уж хуже.
Хотелось как-то не таким.
Что старость (?) – просто жизни ужин.
А после? Убеждённо спят.
И пусть для сна потребен кворум,
я помню стул, старушек, дворик…
Всё помню.
Только не тебя.
И повторяющееся неповторимо,
как если бы не первой зашуршать конфеткой.
Вести огонь по пустоте непримиримо
в сетях реверберационного эффекта
и, тем не менее, всё мимо, мимо, мимо,
а раздражение-то копится.
На звуки
в наушниках, наверно, наложили схиму —
ты ставишь рок, а слышно выстрел из базуки,
а слышно мощный голос, гулкий, словно в шахте,
советующий: видеть солнце между бликов,
любить ежевечерне наблюдать, как сжата
доходными домами вековая липа [5] Частая картина в исторических центрах наших городов.
…
Когда нет старого, и новое – не ново,
что не мешает вкусно жить, в себя не прятаться.
А пустота царила и во время оно,
неповторимое ведь любит повторяться.
И что снаружи?
То же, что и
в тебе. Не напрягать мениск,
встав на колени; с широтою,
присущей нам, послать на икс
апологетов самомнений —
развившихся не внутрь попов…
Но отчего-то без сомнений
им верят (Эй, Барбос, апорт!).
И вообще, в картине мира
тьма параллелей: дождь, погост,
и жизнь, промчавшаяся мимо,
пустая… и вопросов горсть.
И вроде бы родилась точка,
но дело в том, – да (!), дело в том, —
когда в стакане плещет сочным,
то и вокруг ништяк потом.
Что под землёй, что на земле —
нас никогда не помнят своды,
а мы в отместку, взвод за взводом,
истории сдаёмся в плен,
да не скупясь, себя прощая.
Бумага любит не архив,
а вихрь огня.
Ещё – штрихи,
расставленные без пощады.
Похожая на волшебство,
вздыхает кровь железом бурым,
и остаются пламя – бурным
и закопчённый чем-то свод.
Туман зефиринкой на шпажке
был подан.
Проданным – ноябрь.
Останкинская – грустной башней
седьмонебесновских бояр,
и всё – казалось – не – смотрелось.
И чувствовалось – уходить.
Владея видами из кресла,
хотелось – может быть, хоть и…
и – упрощая – быть не проще.
Субъективизм из-за спины
хихикал, как бы между прочим,
меж рёбер, тонко, до весны.
О любителях навешивать ярлыки
Не почему, а для. А липкое во имя
просматривается противно-льстивым фоном.
Пробуй – замедлясь: и встанет солнце-вымя,
благословит дацан приход. У эхнатонов,
пожалуй, тоже был какой-нибудь подлиза,
про царскую пургу велеречиво клоцал
свою пургу. Жлобы. На шпиль, гордясь, нанизал
мой город, лучший гуру, солнце.
Любой из выборов не хуже грязной клетки,
не выбираем мы, не выбирают нас.
И, ерунду споров, смеётся напоследок
жизнь, взятая взаймы, на свет прищуря глаз.
Таксист-философ не иссяк,
бьёт пыль войны в переговорных,
а в небо пукают коровы
раскачивающееся.
Араб шарахнул боевым,
спит дауншифтер на измене,
но большинство-то изменений
непреодолеваемы.
Поюзанный?
Так выпей яд, —
пусть треш, как женщина без клавиш,
зато от тусклого избавишь
«асудьиктокования».
Читать дальше