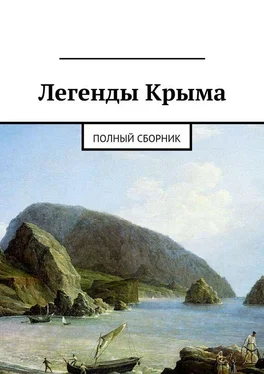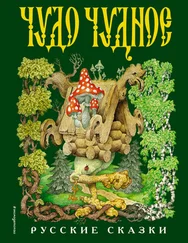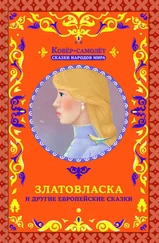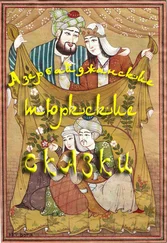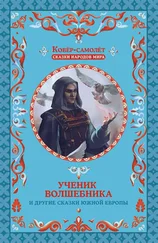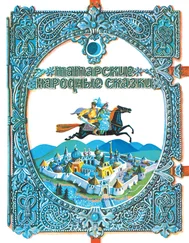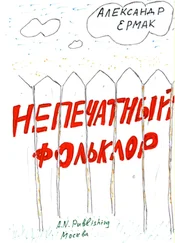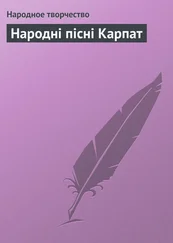1 ...7 8 9 11 12 13 ...29 София появилась перед ним в алом наряде с гранатовым ожерельем на обнаженной шее. Он оказался прав: ее спасло гранатовое ожерелье. Девушка, таясь, подкралась к нему, пока хазарские воины гуляли на тризне, и вытерла кровь с его запекшихся губ. Снять его с кола она не смогла, да в этом уже и не было нужды: он доживал последние минуты.
– Прощай, мой возлюбленный! – София не рыдала, бледная, без кровинки в лице, она тяжко страдала. – Твой ребенок стучит в мое сердце.
– Сохрани дитя, берегись и уходи отсюда: хазары нагрянут и тогда уже не пощадят тебя! – говорили его глаза.
А так ли то все было?.. Надобно еще раз обратиться к историческому источнику – «Житие Иоанна Готского»?
Творя добро, разбудишь ложь.
Во благо – ложь святая,
Сомненьем душу не тревожь,
Коль благо расцветает.
Шел 1825 год. Один из местных татар пас овец в лощине Кизилташ, названной так потому, что располагалась она у подножия высокой скалы из красного известняка (по-тюрски «Кизилташ» – красный камень). День был очень жарким. Чабан решил спрятаться от зноя в гроте, в глубине которого был вырублен в скале небольшой колодец. Подойдя к нему, пастух увидел плавающую на его поверхности старую икону с образом Богоматери. Эту икону татарин извлек из воды и передал греческому купцу. От купца икона попала в храм Стефана Сурожского.
Молва о чуде быстро разнеслась по Восточному Крыму, и потянулись в урочище Кизилташ к гроту с колодцем толпами паломники. Ежегодно, в день Успения Божьей матери (15 августа) сюда стали приглашать священников из Судака. Число паломников болгарского, греческого, русского и татарского происхождения в такой день достигало 700 человек. Молва стала распространяться об исцелении чудодейственной водой из Кизилташского колодца. Кроме того, очень полезной «в лечении от ломот» считалась грязь со дна болотца, находящегося чуть ниже источника. Этой грязью намазывали больные члены и давали ей высохнуть, после чего боль проходила. Рядом с источником начали селиться богомольцы, а в 1853 году несколько дней в урочище Кизилташ провел архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий. Дал он благословение на строительство монастыря в Кизилташе. И уже в 1856 году в округе целебного источника начали возводиться первые постройки монастыря во имя святого Стефана Сурожского. С Кизилташской киновией связано имя одного из крымских святых – игумена Парфения, который в 1858 году был назначен настоятелем монастыря. Парфений был не просто хорошим священником, но заметно отличился и на гражданской и военной службе, был изобретателем, обладал значительным умом. Это был мужественный и деятельный хозяин кизилташских лесов. Парфений не терпел лени и воровства. И поэтому вел жесткую борьбу с местными татарами, которые без зазрения грабили монастырское хозяйство – прежде всего рубили лес. В конце концов, противостояние достигло своего пика – осенью 1866 года трое татар из поселка Таракташ (ныне с. Дачное около Судака) жестоко убили игумена в лесу, а после сожгли его тело. Вскоре виновные были арестованы и казнены.
Время действия легенды о грибах Самсония происходит в то время, когда Кизилташским монастырем управлял игумен Николай, человек великой души. К нему прислало епархиальное начальство на эпитимию отца Самсония. В киновии скоро полюбили нового иеромонах за его веселый, добрый нрав, за сердечную простоту и общительность. В свой черед и отец Самсоний привязался к обители, сроднился с горами, окружавшими высокой стеной монастырь; сжился с лесной глушью и навсегда остался в Кизилташе.
Не единой молитвой монах сытым бывает, и отшельникам люди и звери пропитание несли. А если земли у киновии мало, а монахов много, то и игумену задуматься надо, чем кормить монашеское братство. Кизилташский монастырь не относился к числу богатых. Жизнь текла в трудах и молитвах тихо и размеренно.
Раза два-три в год наезжала помолиться Богу, а кстати по ягоду и грибы, местная отузская помещица с семьей, и тогда дни эти были настоящим праздником для всех монахов и особенно для отца Самсония.
Монахи слышали звонкие женские голоса, общались со свежими наезжими людьми, которые вносили в их серую, обыденную жизнь много радости и оживления. А отец Самсоний знал, как никто, все грибные и ягодные места, умел занять приветным словом дорогих гостей и потому пользовался в семье помещицы особым расположением.
Уезжая из обители, гости оставляли разные съедобные припасы, которые монахи экономно сберегали для торжественного случая.
Читать дальше